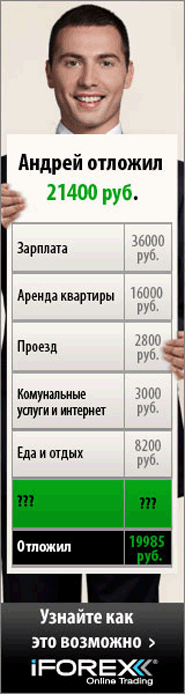|
РУБРИКИ |
Книга: Общее языкознание - учебник |
РЕКОМЕНДУЕМ |
||
|
Книга: Общее языкознание - учебниккорреляция с данными Нобла (см. [134, 38]). Существуют и другие методики психолингвистического или психологического характера, позволяющие экспериментально исследовать «субъективные» значения. Из них упомянем здесь условнорефлекторную методику, использованную проф. А. Р. Лурия и его сотрудниками. Был выработан условный рефлекс на какое-то слово, допустим, кошка. Оказывается, у нормального взрослого русского при этих условиях слова стекло, карандаш, облако и др. не вызывают реакции (в качестве реакции бралось сужение и расширение сосудов, хорошо регистрируемое на плетисмографе). Не вызывают реакции и слова окошко, крошка, близкие слову-стимулу по звучанию. Но на слова: котенок, мышь, животное, собака испытуемые реагируют [122]. Такого рода методики дают нам более объективные данные, чем методики типа осгудовской. И, пожалуй, один из наиболее интересных результатов, полученных Лурия, заключается в том, что структура «субъективной» семантической системы не соответствует абстрактно-логической классификации. Например, слово арфа никогда не причислялось к струнным инструментам. Видимо, то, что устанавливается в экспериментах Лурия и аналогичных им, — это даже вообще не статическая структура, а, так сказать, направление ориентации в семантическом поле, критерии, по которым происходит выбор слов из лексикона, имеющегося в нашем распоряжении, при порождении речи. Что такие критерии существуют, что мы производим ориентированный поиск в семантическом поле, нет никаких сомнений. В современных семантических теориях (например [119, 1]) можно найти идею иерархии семантических признаков слова (семантических маркеров), но этим признакам приписывается как раз абстрактно-логический характер. Из сказанного видно, что это, по-видимому, не так, но ничего определенного по этому вопросу сказать нельзя.<344> Во всяком случае, идея «своего рода топологии в семантическом пространстве» [143, 81] носится в воздухе. Многое в наших сведениях о психологических механизмах семантической стороны речи может быть почерпнуто из исследования различных форм афазии. Практически при всех ее формах смысловое содержание слова как-то страдает, но происходит это по-разному. У больных с так называемой сенсорной афазией (поражение левой височной области) сохраняется способность к восприятию абстрактных семантических отношений; «ближайшее значение (или предметная отнесенность) слова страдает в таких случаях в гораздо большей степени, чем его обобщающая функция... Для больных с сенсорной афазией остается доступным целый ряд операций абстрактного мышления (классификация предметов, операции отношениями типа «род — вид» и т. д.)» [47, 103]. Часты явления так называемой вербальной парафазии, когда слово заменяется другим, близким ему по значению (делать
работу с пожаром вместо с огоньком). Границы значения размыты, больной не может дать слову точного определения (тайга — 'что-то лесное... лесное'; футбол — 'что-то физкультурное, а что ?'). У страдающих так называемой динамической афазией (поражение передних отделов коры левого полушария) нарушения совсем иные: сохраняется непосредственная предметная отнесенность слова, но разрушается система значений, в особенности страдают различного рода контекстно связанные и переносные значения: Что движется на улице? — Люди, автобус, троллейбус. Про них можно сказать, что они идут? — Нет [70]. Это показывает, между прочим, что механизмы языкового мышления, управляющие различными операциями над семантикой слова, различны и локализованы в разных частях коры. Усваивая от взрослых родной язык, ребенок получает от них информацию о том, что то или иное слово относится к тому или иному явлению действительности. Но как оно относится, может быть различным и фактически оказывается различным у ребенка и взрослого. Более того, структура изменяется по совершенно определенным закономерностям, детально исследованным советскими учеными, в частности Л. С. Выготским и Н. X. Швачкиным [16; 88], и проходит несколько последовательных этапов. Первый из этих этапов — неоформленное синкретическое сцепление отдельных предметов. С лингвистической точки зрения это — известный феномен полисемантизма детской речи, когда одним словом обозначаются предметы или явления, объективно не связанные или связанные очень слабо. «Словом «ябоко» называется красное яйцо и яблоко, через несколько дней это же название переносится на красный и желтый карандаш, любой круглый предмет, щеки» [52]. Этот полисемантизм вызван тем, что «первые «слова» ребенка выражают переживания в связи с воспри<345>ятием предмета, они не имеют еще константного значения» [87, 102]. Второй этап соответствует так называемому комплексному мышлению. «В известном смысле мы могли бы сказать, что ребенок, находящийся на этой ступени развития, мыслит как бы фамильными именами, или, иначе говоря, мир единичных предметов объединяется и организуется для него, группируясь по отдельным, связанным между собой фамилиям... Значения слов на этой ступени развития ближе всего могут быть определены как фамильные имена объединенных в комплексы или группы предметов» [16, 168]. Если в понятии отражается существенная связь и отношение предметов, то в комплексе — конкретные, случайные (хотя уже объективные) связи. Это вынуждает ребенка в поисках более существенных оснований для формирования комплексов опираться в весьма большой мере на данные языки, относя к одному классу предметы, обозначенные одним способом. И вот «ребенок усваивает от взрослых готовое значение слов. Ему не приходится самому подбирать конкретные предметы в комплексы... Но ребенок не может усвоить сразу способ мышления взрослых» [16, 179]. Это происходит уже на третьем этапе — этапе собственно понятийного мышления. Существенно отметить, что этап комплексного мышления в виде реликтовых явлений сохраняется и в языковом мышлении взрослых. Эта проблема, затронутая в своё время Л. С. Выготским, — к сожалению, весьма поверхностно — ждет своего разрешения [16, 194; 41, 189]. В этой связи следует упомянуть цикл работ по экспериментальному исследованию процесса наименования, осуществленный грузинскими психологами (см. [2; 80] и др.). В данном разделе мы, естественно, не смогли затронуть весьма многих проблем, связанных с психологической стороной семантики слова, в частности, проблему осознания значений, являющуюся одной из существеннейших психологических проблем, связанных с обучением грамматике родного языка и второму языку. Вообще проблемы «психологической семантики» весьма важны. Но разрабатываются они весьма односторонне и недостаточно как в теоретическом, так и в практическом плане. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТОРОНА ПРОБЛЕМЫ АКТУАЛЬНОГО
ЧЛЕНЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Проблема, о которой пойдет речь в настоящем разделе, весьма редко ставится как проблема психологическая или психолингвистическая. Чаще всего она относится к сфере логики, где именуется проблемой «суждения и предложения», а иногда переносится<346> целиком в границы лингвистики, что также неоправданно [13; 61]. Ход мысли исследователя в типовом случае таков. Есть мышление, есть язык (или речь). Они «неразрывно связаны». Если в языке (речи) мы выделяем такую единицу, как предложение, то аналогичная единица должна быть в мышлении. При внимательном рассмотрении оказывается, что суждение аристотелевской логики для роли такой единицы не подходит, ибо оно слишком узко и не охватывает всех типов высказываний. Отсюда и возникает проблема «суждения и предложения», решаемая большинством авторов простым путем — созданием более широкого понятия, в которое понятие «суждение» входило бы как частный случай («пропозиция»; «логическая фраза» или «логема» П. В. Чеснокова — см. [83]). Границы этого более широкого понятия устанавливаются таким образом, чтобы оно как раз «покрыло» разные типы предложений. Для рассуждающих так лингвистов «между языком и логическими операциями нет места ни для какой «психической реальности» [26, 62]. Такой подход, однако, никак не может нас удовлетворить по двум причинам. Во-первых, он абсолютно абстрагируется от психологии — от реальных закономерностей языкового мышления; А. А. Потебня совершенно правильно писал восемьдесят лет назад, что «в суждении логика не рассматривает процесса оказывания, а со своей односторонней точки зрения оценивает результаты совершившегося процесса» [64, 70]
12 языка и мышления, что едва ли справедливо. Это понимал уже А. А. Шахматов, а ранее — тот же А. А. Потебня, резонно утверждавший, что «грамматическое предложение вовсе не тождественно и не параллельно с логическим суждением... Для логики в суждении существенна только сочетаемость или несочетаемость двух понятий» [64, 68]. Поэтому в настоящем разделе мы остановимся только на таких понятиях и категориях, которые были разработаны на психологической основе или во всяком случае получили конкретно-психологическое обоснование. Такими понятиями и категориями в интересующей нас области будут, во-первых, понятие коммуникации, во-вторых, система взглядов, связанных с идеей актуального членения речи. Идея коммуникации, получившая в лингвистике особенное развитие в синтаксических трудах А. А. Шахматова, восходит к книге известного шведского лингвиста Сведелиуса [142]. Это — психологическая основа предложения, рассматриваемая Шахматовым как акт мышления [86, 19], акт сочетания представлений. В отличие от многих других авторов, Шах<347>матов считает, что если «начало коммуникация получает за пределами внутренней речи», то «завершается она в процессе внутренней речи» [86, 20]. Таким образом, коммуникация есть категория не внеречевая, не абстрактно-психологическая, а категория речевого мышления; она входит, как мы бы теперь сказали, в модель порождения речи как один из ее уровней. Коммуникация состоит из двух членов: «предложению: испуганная нами ворона
взлетела на высокую липу соответствует коммуникация, субъектом которой является испуганная нами ворона, а предикатом — взлетела на
высокую липу» [86, 28]. Сведелиус указывает на две основные формы коммуникации: «коммуникацию отношений» и «коммуникацию событий». Первая есть отражение какого-то обобщенного отношения, вторая — констатация реально происходящего процесса, соответствующая актуальному семантическому состоянию. Пример первой — Сократ — человек, пример второй — собака лает. Концепция Сведелиуса — Шахматова психологически довольно правдоподобна. Есть много фактов, подтверждающих ее. Так, в опытах ленинградского психолога В. В. Оппеля первоклассники, которых просили расчленить высказывание на «слова» (что такое слово, они не знали), делили его прежде всего на субъект и предикат коммуникации: яблоки — стоятвмиске; наплите — стоитчайник;
пес — ощетинилсяизарычал. Впрочем, в тех случаях, когда образ, вызываемый субъектом, в результате предикации не претерпевает изменения, субъект и предикат рассматривались как одно слово: идетдождик, солнцесветит [58, 59— 60]. Аналогичные данные можно почерпнуть из анализа ранней детской речи, из исследования афазий и т. д. Интересно, что «коммуникации событий» и «коммуникации отношений» нарушаются у афатиков в разной степени: часто они не в состоянии понять смысл абстрактной констатации, но легко понимают смысл утверждения, касающегося конкретной ситуации. В сущности, теория актуального членения предложения представляет собой развитие той же концепции. Согласно этой теории, можно подходить к анализу предложения по меньшей мере с двух сторон: со стороны его формальной структуры и с точки зрения того, как данное предложение (сообщение) передает новую информацию, т. е. какие его части передают уже известные нам факты, какие — новые факты и сведения [30; 32; 50; 68]. На этот счет существует много суждений, однако лишь недавно проблема актуального членения получила психолингвистическое осмысление в работе К. Палы «О некоторых проблемах актуального членения» [60]. К. Пала произвел ряд экспериментов, на основе которых выдвинул некоторые соображения о процессе возникновения языкового сообщения: «Сначала говорящий располагает структурой представлений, т. е. семантической структурой данного сообщения, которая в этот момент никак не долж<348>на быть связана с конкретной синтаксической реализацией данного сообщения. Но в случае, когда говорящий начинает порождать данное сообщение, он начинает пользоваться синтаксическими реализациями семантической структуры сообщения, и при этом он может для одного семантического содержания данного сообщения отбирать разные синтаксические реализации» [60, 87]. Эти соображения К. Палы, как можно видеть, очень близко подходят к идеям Л. С. Выготского относительно структуры внутренней речи. Большой психолингвистический интерес представляют данные об историческом развитии структуры высказывания, к сожалению, весьма недостаточно систематизированные. Этой проблемой в свое время много занимались А. А. Потебня и его ученик Д. Н. Овсянико-Куликовский. Последний выдвинул, в частности, предположение (опираясь на взгляды Потебни), что «некогда на древнейших ступенях развития языка любое слово могло быть предикативным», что «тогда в практике речи-мысли, действительно, отдельных слов не было» и «единицей речи было не слово, а предложение» [56, XXV].
ГРАММАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПОРОЖДЕНИЯ РЕЧИСовременное состояние этой проблемы никак нельзя назвать утешительным. По словам Дж. Миллера и Д. Макнила, «самое большее, что мы можем сказать о модели грамматической переработки высказывания, это то, что она должна включать компонент, отражающий грамматическое знание носителя языка; что она должна порождать речь отдельными шагами во времени слева направо; что она ограничена возможностями кратковременной памяти; что она должна быть приемлемой и для порождения, и для восприятия речи; и что она может быть генерализована на неграмматический материал. Внутри этих широких границ может быть построено большое количество различных моделей: и одна из задач экспериментальной психолингвистики — собрать данные, которые позволят сузить эти границы настолько, чтобы они ограничили одну, приемлемую модель» [128] (в печати). Такого рода моделей сейчас существует по крайней мере три (вернее было бы говорить не о трех моделях, а о трех классах моделей, так как каждая из них имеет множество вариантов). Это: а) стохастические модели; б) модели непосредственно составляющих; в) трансформационные модели. Рассматривая их ниже, мы не затрагиваем проблематики собственно теории порождающих грамматик, рассматривая их постольку, поскольку они используются для моделирования психофизиологического порождения речи.<349> Стохастические модели предполагают, «что множество элементов сообщения может быть репрезентировано при помощи дистрибуции вероятностей и что различные коммуникативные процессы (кодирование, передача и декодирование) заключаются в оперировании этой априорной дистрибуцией и трансформировании ее в соответствии с известными условными вероятностями — в апостериорную дистрибуцию» [126, 422]. Иными словами, согласно стохастическому представлению, говорящий использует при порождении речи (или ее восприятии) исключительно вероятностные характеристики речевых элементов: сам факт и вероятность появления очередного элемента обусловлены предшествующими элементами. Факт использования вероятностных характеристик в восприятии был доказан блестящим экспериментом А. Трейсман, поставленным следующим образом: известно, что если мы даем на левое и правое, ухо различные сообщения, выбирается только одно из них. Но если теперь ввести в «отвергнутое» сообщение слова, обладающие высокой вероятностью в данном контексте, то происходит переключение на соответствующий канал восприятия [137]. О том, как именно используется при этом речевой контекст, также имеется целый ряд исследований, обобщенных в работе Я. Прухи [135]. Однако эксперименты показывают, что выбор грамматической формы в гораздо меньшей степени зависит от влияния контекста, нежели выбор отдельного слова (см. [93]). Возникает проблема того, применимы ли вообще стохастические модели к моделированию именно грамматической структуры. Ограничимся лишь одним аргументом на этот счет, принадлежащим Дж. Миллеру. «Для того, чтобы ребенок обучался всем правилам... последовательности, построенной по принципу «слева направо», которые необходимы для создания совершенно приемлемых предложений из двадцати слов или меньше, он... должен выслушать... приблизительно 1030 предложений. Чтобы оценить по достоинству, насколько это условие нелепо, вспомним тот факт, что в столетии только 3,15 x 109 секунд» (см. [53, 158—159, ср. 40]). Так называемая грамматика непосредственно составляющих (НС) является, как говорят, более сильной моделью порождения речи. Напомним, что ее основная идея заключается в применении правил деривации типа «вместо Х подставить У». Так, порождение предложения Талантливый художник пишет интересную картину будет осуществляться по правилам грамматики НС следующим порядком: предложение > именная группа + группа сказуемого; именная группа > определение + определяемое и т. д., пока мы не дойдем до конечной («терминальной») цепочки слов. В отличие от марковских моделей, в модели НС порождение идет в двух направлениях: за счет последовательного появления компонентов и за счет их так называемого «расшире<350>ния». То, что первым шагом порождения Должно быть вычленение именной группы, т. е. сочетание талантливый художник, определяется нашим знанием структуры предложения в целом и никак не выводимо стохастическим путем. Наиболее известная модель психофизиологического порождения речи на основе грамматики НС принадлежит Ч. Осгуду [132]. Осгуд рассматривает процесс порождения речи (как ее восприятие) как своего рода «супермарковский»: стохастические закономерности, по его мнению, действуют на каждом из последовательных уровней деривации, причем выбор единиц на более «высоких» уровнях частично обусловливает выбор единиц на дальнейших уровнях, или ступенях деривации. На эту модель опирался в своих экспериментах Н. Джонсон, исследовавший вероятность ошибок при запоминании предложений с разными синтаксическими структурами; оказалось, что эта вероятность резко повышается на границах сегментов, выделяемых в ходе анализа по НС (типа именной группы); внутри же таких сегментов вероятность ошибки уменьшается по обычным закономерностям марковского процесса [117]. Позже Джонсон поставил еще ряд очень удачных экспериментов в подтверждение модели Осгуда. Несмотря на успешные эксперименты Джонсона и других психолингвистов, опиравшихся на грамматику НС, она оказалась малопригодной для моделирования некоторых типов предложений и уступила место трансформационной порождающей модели. Главная идея этой модели заключается в том, что для получения некоторых типов предложений необходимо произвести определенную операцию над деревом НС в целом (или, вернее, над его терминальной цепочкой). Например, «породив» приведенное выше предложение Талантливый художник пишет интересную картину по правилам НС, мы можем, согласно трансформационной грамматике, оперируя над терминальной цепочкой порождения, получить из данного активного, утвердительного, повествовательного предложения его пассивный, отрицательный, вопросительный варианты в различных сочетаниях. Иначе говоря, предполагается, что порождая предложение типа Не пишется ли интересная картина талантливым
художником?, мы сначала строим приведенное выше исходное предложение, а затем преобразовываем его в трех «измерениях». Дж. Миллер со своими учениками и последователями осуществил целый ряд экспериментов, направленных на доказательство применимости ТГ в психолингвистическом моделировании
13 активными утвердительными предложениями всегда требуют меньше дополнительного времени, чем операции, не<351> включающие таких предложений... Это, в сущности, и есть то, что утверждает трансформационная теория: пассивные, отрицательные я пассивно-отрицательные предложения содержат все те же синтаксические правила, что активные утвердительные, плюс одно или два, что усложняет их и требует несколько большего времени для интерпретации (или порождения)...» [127, 307]. Даже отвлекаясь от результатов подобной экспериментальной проверки, можно указать на ряд существенных недостатков трансформационной модели, как, например, неучет фактора мотивации и предметно-логического содержания высказывания, принципиальная необязательность психологического порождения лингвистически одинаковых высказываний одним и тем же способом и зависимость этого способа от характера экспериментальной ситуации и т. д. Особенно существенно, что ТГ, выдвинутая как модель описания «грамматического знания», языковой способности, сплошь да рядом проецируется на моделирование речевой деятельности; однако для этой цели она заведомо непригодна. Эти и другие недостатки трансформационной модели вызвали реакцию двоякого рода. Во-первых, появился ряд экспериментальных исследований, в той или иной форме стремящихся опровергнуть данные миллеровских и аналогичных им экспериментов. Во-вторых, внутри самого лагеря сторонников трансформационной модели появились работы, отходящие от традиционной интерпретации этой модели. Ряд работ первого типа (Мартин и Робертc, Танненбаум, Ивенс и Уильямc, Лущихина и др.) привел к выводу, что Миллер прав лишь отчасти: хотя усложнение предложения и увеличение времени; необходимого для оперирования этим предложением, связаны, но никаких убедительных количественных данных на этот счет получить невозможно. Те эксперименты, авторы которых с цифрами в руках доказывали пригодность ТГ для психолингвистического моделирования, при внимательном рассмотрении оказываются не вполне корректными; более строгие эксперименты не подтверждают модели сколько-нибудь основательным образом и обычно позволяют противопоставить друг другу лишь ядерные и неядерные предложения. Есть и работы, результаты которых ставят под сомнение вообще адекватность трансформационной модели [97]. Из работ второго типа укажем как на наиболее интересное на исследование Д. Слобина. Он был вынужден предположить, что испытуемые по-разному оперируют с предложениями в зависимости от того, являются ли эти предложения «обратимыми» (автомобиль догоняет поезд, но поезд тоже может догонять автомобиль) или «необратимыми» (человек ест дыню; дыня не может есть человека) [141]. Это значит, что в порождении предложения имеется<352> некий «дограмматический» этап, на котором говорящий (или воспринимающий речь) ориентируется на общее содержание предложения, как бы высказывает суждение о характере описываемой ситуации, существенное для дальнейшего оперирования с предложением. В конечном счете такая идея равнозначна идее внутреннего программирования речевого высказывания в субъективном коде, частично затронутом выше в связи с проблемой внутренней речи. Допущение подобного звена в порождении речи позволяет наилучшим образом интерпретировать некоторые полученные ранее экспериментальные факты. Так, можно предположить, что именно звено программирования является психофизиологическим субстратом феномена актуального членения высказывания. В целом следует прийти к выводу, что трансформационная модель хотя и очень удобна для психолингвистического моделирования речи (и трансформационный принцип, без сомнения, в какой-то форме реально используется в порождении), но она отнюдь не является единственно возможной и единственно допустимой, а вероятнее всего входит в общую схему процессов психофизиологического порождения речи на правах факультативного звена.
ФОНЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПОРОЖДЕНИЯ РЕЧИМы не будем останавливаться в настоящем разделе на традиционном представлении о механизмах фонации. Такого рода сведения можно найти в любом учебнике. Поэтому мы ограничимся изложением некоторых новых исследований, приведших к частичному или полному пересмотру наших представлений в этой области. Одно из этих исследований, касающееся преимущественно процессов иннервации голосовых связок, принадлежит французскому физиологу Раулю Хюссону [108]. Ему удалось доказать, что в процессе фонации голосовые связки не являются пассивным звеном, иначе говоря, что колебательный ритм не навязывается им экспирацией, но обеспечивается специфической иннервацией со стороны головного мозга. Данные Хюссона представляют особый интерес в свете проблемы восприятия речи. Другое важное исследование принадлежит советскому психологу Н. И. Жинкину [21 и др.]. Основные его результаты сводятся к тому, что в фонации принимают участие две основных физиологических системы, образующие «статический» и «динамический» компоненты речевого механизма. «Динамический» компонент — это механизм слогообразующий, а в конечном счете — форми<353>рующий синтагматическую звуковую структуру слова; образование слова Н. И. Жинкин относит за счет модуляций глоточной трубки. «Статический» компонент обеспечивает семантическое тождество и различение звуковых структур слов. Это, прежде всего, фонемный, артикуляционный механизм. «Без статических элементов речь потеряла бы смыслоразличительную функцию, а без слоговой динамики она просто не может осуществиться в звуковом произнесении» [21, 348]. Фонация организована, по Жинкину, следующим образом. «От моторной зоны коры речедвигательного анализатора при произнесении слова идет поток импульсов по пирамидному пути к языку. Системность этого потока подготовлена предшествующим речевым опытом и определена условнорефлекторными связями, организованными в совместной деятельности слухового анализатора и премоторной зоны речедвигательного анализатора. Одновременно от премоторной зоны речедвигательного анализатора такой же поток импульсов поступает по экстрапирамидным путям... к глотке. Так как глотка вместе с полостью рта составляет одну надставную, резонаторную трубку, в которой образуется качество речевого тембра, то объем потребного для фонации данного речевого звука воздуха определяется именно здесь, в глоточном резонаторе. Для перешифровки объемов глоточного резонатора и учета их возникает необходимость всесторонней афферентации. Движения глотки афферентируются: а) в премоторную зону, где сосредоточивается анализ и синтез выучки (т. е. динамических «индексов», закрепляемых за определенными звуками в словесном стереотипе. — А. Л. ); б) в слуховой анализатор, который осуществляет контроль за акустическим результатом произнесения; в) в таламическую и гипоталамическую области, возбуждение которых вызывает бронхиальную перистальтику... Изменяющийся просвет бронхов, в свою очередь, афферентирует дыхательный центр, который, соответственно требуемым объемам глоточного резонатора, вводит в действие дыхательные мышцы...» [22, 262]. Имеется, следовательно, два уровня регулирования фонационного процесса: подкорковый, автоматический, и корковый, неавтоматический, т. е. сознательная регуляция. В работах Н. И. Жинкина впервые в нашей физиологии речи широко применялась методика рентгенокиносъемки. Такого рода исследования несколько позже производились и за рубежом (см. [148; 129]). Остановимся на некоторых других методах исследования фонации. Здесь следует назвать (кроме традиционных) метод рентгенографии; метод стробоскопической съемки, в последнее время использованный Фудзимурой, но впервые примененный еще в 1913 г. [103]; близкий к нему метод съемки «ультра-рапидом», впервые использованный В. Эрриотт в 1938 г.; различного рода электромиографические исследования, осуществлявшиеся как<354> у нас в стране, так и за рубежом [29]; метод регистрации микродвижений органов речи [76] и т. д. Однако все без исключения эти методы имеют лишь весьма ограниченную ценность, ибо ни один из них не позволяет достаточно полно зарегистрировать все релевантные особенности действия фонационного аппарата и представить в единой, доступной анализу картине одновременную активность различных его частей. Поэтому, поставив перед собой задачу исследования на современном уровне знаний процесса фонации и процесса восприятия речи, ленинградский физиолог Л. А. Чистович вынуждена была разработать и принципиально новую методику экспериментального исследования. Важнейшим компонентом такой методики явился метод «динамической палатографии», позволяющей регистрировать при помощи системы электродов, размещенных на искусственном небе, динамику движений языка. Кроме того, на той же осциллограмме, на которой регистрировались потенциалы, снятые с этих датчиков, регистрировались также: скорость потока воздуха, выходящего изо рта и из носа; внутриротовое давление, дыхательное движение (методом пневмографии); артикуляторные движения губ (методом измерения электрического сопротивления при помощи датчика с контактом); деятельность голосовых связок (при помощи ларингофона). Наконец, параллельно велась и обычная микрофонная регистрация с дальнейшим спектральным анализом. Опираясь на такую комплексную методику, позволявшую одновременно и непрерывно получать 11 показателей, характеризующих поток речи, Л. А. Чистович добилась существенных успехов. Вот важнейшие из полученных ею результатов. 1) «... Если мы... рассматриваем синтагму как последовательность слогов, то ее ритмический рисунок оказывается инвариантным... Отсюда естественно сделать вывод, что в программе синтагмы ритмически организованными являются слоговые команды, т. е. команды, вызывающие осуществление всего слогового комплекса движений. Развертывание слога в последовательности звуков речи происходит уже по каким-то собственным законам» [85, 96]. 2) «Для синтеза (записи) артикуляторной программы слова используются два раздельных блока (системы). В одном из блоков записываются указания только о том, когда нужно совершать движения. Во втором блоке содержатся перечисления необходимых движений и указание их последовательности. Работа блока, обеспечивающего временной рисунок, состоит в выработке ритмической последовательности импульсов, которые не имеют конкретных адресов» [85, 119]. 3) «Простейшим и основным артикуляторным комплексом является слог СГ. Более сложный слог типа ССГ представляет собой систему из этих простейших комплексов, построенную та<355>ким образом, что второй из этих комплексов может осуществляться частично параллельно с осуществлением первого» [85, 157]. Остановимся на проблеме дифференциальных признаков. Как известно, сама идея дифференциального фонетического признака восходит к работам И. А. Бодуэна де Куртенэ и, в частности, к выдвинутым им понятиям акусмы, кинемы и кинакемы. Акусма — это «представление акустического впечатления, вызываемого далее не разложимым произносительно-слуховым элементом, например, губной артикуляцией...»; кинема — «представление простейшего, далее психически не разложимого произносительного элемента, например, губной артикуляции...»; кинакема — «двусторонний простейший психический произносительно-слуховой элемент...Имеет место в тех случаях, когда акустический результат совпадает с вызывающим его движением органов речи» [8, 310]. В этих определениях, данных Бодуэном, намечены оба направления дальнейшей разработки идеи дифференциальных признаков в мировой науке — акустическое и артикуляционное. Первое из них представлено циклом работ, открытым монографией Р. Якобсона, Г. Фанта и М. Халле «Введение в анализ речи» [112; 113]. Идея Якобсона и его соавторов заключается в том, что для различения значимых единиц языка (морфем) слушающий использует набор элементарных акустических признаков. В основу выделения таких признаков положен дихотомический принцип. Фонема рассматривается как пучок таких признаков, ей приписывается своего рода матрица признаков, где клетки заполнены плюсами, минусами или нулями. Когда в конце 50-х гг. получила широкое распространение трансформационная модель языка, дихотомическая теория дифференциальных признаков вошла в нее как составная часть, описывающая «фонологический компонент» этой модели. С самого начала концепция Якобсона вызвала ряд возражений. Указывалось, что дифференциальные признаки, если и поддаются отождествлению на спектрограмме, то остаются не определенными артикуляционно. Ставилась под сомнение и правомерность дихотомического принципа в теории дифференциальных признаков и т. д. В настоящее время вопрос как будто решился в сторону непризнания дифференциальных признаков реальными компонентами фонации и восприятия речи. Доказано, что между акустическими и артикуляционными характеристиками потока речи нет однозначного соответствия [120], нет такого соответствия и между дихотомической (якобсоновской) системой дифференциальных признаков и артикуляционными признаками звуков речи [9], так что наиболее правильным будет представлять дифференциальные признаки «в виде абстрактной системы, которая лишь опосредствованным образом соотносится с физическими данными» [26,171].<356> «Артикуляционное» направление в теории дифференциальных признаков представлено группой американских работ, вышедших из Хаскинских лабораторий, и работами лаборатории Л. А. Чистович. Основное расхождение между американскими и советскими работами заключается в том, какой сегмент потока речи рассматривается как различаемая (или, напротив, синтезируемая) единица. Американские исследователи под руководством А. Л. Либермана считают такой единицей слог; Л. А. Чистович и ее сотрудники полагают, что в этой роли выступает слово. Благодаря новой методике, разработанной в лаборатории Чистович, удалось составить список артикуляционно-акустических дифференциальных признаков, реально используемых в процессе анализа (синтеза) русской речи. Отмеченное выше наличие двух направлений в исследовании дифференциальных признаков соотнесено с двумя направлениями в теории восприятия речи, существование которых было впервые отмечено Э. Фишер-Иоргенсен — акустическим и моторным [102]. Традиционная «акустическая» трактовка восприятия речи исходила из того, что поток речи воспринимается пофонемно, причем за каждой фонемой закреплены некоторые инвариантные признаки. Именно на такую трактовку опирался Якобсон в своей теории дифференциальных признаков. Однако основные предпосылки модели Якобсона не оправдались. Во-первых, обнаружилось, что информация о каждой данной фонеме не сосредоточена в одном звуке речи, а разбросана по нескольким. Во-вторых, оказалось, что переходы от звука к звуку несут не меньшую, а в ряде случаев более важную для распознавания информацию, чем так называемые «стационарные участки». Противопоставленная акустической «моторная» теория восприятия предполагает, что в процессе восприятия происходит текущая артикуляционная имитация воспринимаемых звуков. Сама идея такой имитации (в типичном случае ограничивающейся соответствующей иннервацией) в науке не нова; в частности, она высказывалась О. Есперсеном [116, 20], а у нас в стране — А. А. Потебней, А. Л. Погодиным и П. П. Блонским. В последние годы она все чаще встречается на страницах научных книг и статей. Особенно ярыми пропагандистами «моторной» теории восприятия являются психологи из группы А. Либермана, один из которых, П. Делатр, прямо заявлял, что «звуковая волна воспринимается не прямо, а опосредствованно, путем соотнесения ее с артикуляторным движением» [100, 248]. Сторонником «моторной» теории в нашей науке является Л. А. Чистович. Однако «моторная» теория отнюдь не общепринята в современной науке. Даже те, кто, как М. Халле, считают возможным говорить об «анализе через синтез» при восприятии речи, не обязательно распространяют эту концепцию на восприятие звуковой стороны речи. Что же касается таких активных сторонников<357> «акустической» теории, как Р. Якобсон, то они вообще считают наличие артикуляторного компонента в восприятии факультативным [111]. Рассмотрим эту проблему в двух планах; во-первых, с точки зрения того, какая из двух концепций более соответствует общепсихологическим данным; во-вторых, поставим вопрос, насколько обе концепции непримиримы и нельзя ли найти какой-то компромиссный путь. Нет сомнения, что в целом «моторная» теория гораздо больше соответствует нашим современным знаниям о процессе восприятия вообще, нежели теория «акустическая». Существует (и в особенности — в советской психологии) целый ряд работ, убедительно показывающих роль моторного компонента в осязании и зрении [24; 43]. Общая теория восприятия, разработанная советским психологом В. П. Зинченко, включает в себя представление о встречной активности организма относительно воспринимаемого объекта; недаром его доклад на XVIII Международном психологическом конгрессе в Москве летом 1966 г. назывался «Восприятие как действие». Особенно существенны с точки зрения восприятия речи данные о звуковысотном слухе человека, так как обе способности — слух речевой и слух звуковысотный — являются специфически человеческими и генетически тесно связаны. Экспериментальное изучение высотного слуха «показало, что решающая роль в восприятии собственно высоты звука принадлежит моторному компоненту данного процесса» [57, 18]. Однако такой решительный вывод не влечет за собой обязательного участия моторного компонента во всех мыслимых случаях восприятия речи. Дело в том, во-первых, что сторонники двух соперничающих теорий в своей полемике недостаточно учитывают принципиальное различие физиологических функций речи, о котором шла речь выше; между тем оперирование с речью как первосигнальным раздражителем встречается в практике речевого общения и, в частности, восприятия речи гораздо чаще, чем это на первый взгляд кажется. Во-вторых, недостаточно учитывается факт отсутствия обязательной связи между системой восприятия речи и артикуляционной системой, т. е. возможность опоры на неадекватный моторный компонент, показанная в опытах А. И. Иошпе, выполненных под руководством О. В. Овчинниковой. В этих опытах моторный компонент звуковысотного восприятия был модифицирован: вместо того, чтобы формировать звуковысотный слух с опорой на деятельность голосовых связок, как это происходит обычно, для этой цели использовалась установка, где разным высотам приводилась в соответствие различная сила нажатия на клавишу. Оказалось, что выработка звуковысотного слуха от этого не страдает. В-третьих (и это едва ли не самое главное), восприятие речи — это в большинстве случаев не первичное ознакомление с ее свой<358>ствами. Когда же такое ознакомление произведено, то «возможно осуществление опознавательного (и репродуктивного) действия. Однако в этом случае опознавательное действие опирается на иную систему ориентиров и признаков... По мере ознакомления с объектом наблюдатель выделяет в нем новые признаки, группирует их, часть из первоначально выделенных признаков отсеивает...» [24, 252—253]. Далее он объединяет отдельные признаки в своего рода структуры, целостные образы, которые и становятся оперативными единицами восприятия. Если так или примерно так происходит дело и с восприятием речи (а у нас нет оснований в этом сомневаться), то, по-видимому, окажется, что обе существующие теории слишком упрощают этот процесс. Наконец, следует иметь в виду и тот факт, что один и тот же процесс может быть обеспечен как «структурным», так и статистическим механизмом [24, 254—256]. Это касается и более сложных процессов, связанных с восприятием речи, в частности — восприятия и понимания целых предложений. К вопросу о таком восприятии (и понимании как его части) мы сейчас и переходим. Оно исследовано значительно хуже, чем восприятие фонетической стороны речи. Существует две основных концепции восприятия на уровне предложения: одна из них представлена концепцией «грамматики для слушающего», разработанной, в частности Ч. Хоккетом, другая развивается в русле идей «порождающей грамматики». По Хоккету, «слушание не включает операций, которые не входили бы в говорение; но говорение включает все операции, входящие в слушание, плюс логические операции обозрения будущего и выбора» [81, 165]. При этом операции, входящие в слушание, представлены, по Хоккету, в виде стохастического (марковского) процесса: «грамматику для слушающего можно было бы рассматривать как марковский процесс с бесконечным числом состояний» [81, 163]. Что касается «порождающей теории», представленной прежде всего известной работой М. Халле и К. Стивенса [106], то она в известном смысле противоположна, так как предполагает, что восприятие речи включает в себя правила порождения речи плюс правила соотнесения результатов этого порождения с сигналами на входе. В строгом смысле, как пишет об этой концепции Дж. Миллер, это «теория для носителя языка, а не для одного только говорящего или одного только слушающего» [125, 296]. Теория «анализа через синтез», хотя и пользуется большей популярностью, чем другие теории восприятия, не способна объяснить многое в процессе восприятия речи. Непонятно, прежде всего, какую роль в такой модели играет контекст, а значение кон текста для восприятия речи, как показывают многочисленные экс перименты (см. [94]), огромно. Необъяснимы многие ранее полученные данные о вероятностной структуре восприятия. По-видимому, истина лежит где-то посредине, и ни структурный компо<359>нент («анализ через синтез»), ни вероятностный не могут быть исключены из будущей модели восприятия речи. В заключение настоящего раздела остановимся на одной частной проблеме, имеющей, однако, большое практическое значение. Речь идет о восприятии малознакомого или вовсе незнакомого языка и возникающих при этом явлениях. Безусловно установлено, что восприятие чужого языка происходит, так сказать, через призму родного: иными словами, мы «категоризуем» воспринимаемую нами речь, приписываем ей определенную структурность постольку, поскольку такая категоризация свойственна нашему родному языку. Так, звуковые различия, которых нет в фонологической системе, скажем, русского языка, не будут восприняты русским в иноязычной речи без специальной тренировки [63]. По-видимому, эти данные объективно подтверждают «моторную» точку зрения; однако они еще не получили вполне адекватной психологической интерпретации. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЧИ Выше мы кратко остановились на отдельных компонентах порождения и на отдельных его ступенях. В заключение главы рассмотрим акт порождения речи, акт речевой деятельности как целое. Независимо от той конкретной модели, которая предлагается в каждом отдельном случае, все концепции порождения речи имеют нечто общее. Первое, что во всех этих концепциях обязательно присутствует, — это этап порождения, соответствующий «семантической интенции» как наиболее общему замыслу высказывания. Второй этап — этап формирования грамматической структуры высказывания. Третий — этап превращения «голой структуры» в цепь звучащих слов. Существуют, однако, по крайней мере две концепции порождения, где присутствует, так сказать, «нулевой» этап порождения, соответствующий мотивационной стороне высказывания. Это концепция Б. Скиннера [139] и концепция школы Л. С. Выготского. Выше мы уже говорили подробно о понятии деятельности и месте в ней мотива; остается добавить, что идеи Скиннера диаметрально противоположны, он сводит всю речевую активность к сумме внешних механических навыков и речевую способность человека отождествляет с организацией этих навыков [145]. Несмотря на свою явную неприемлемость в целом, интерпретация Скиннером речевого поведения содержит классификацию мотивов, представляющую общий интерес и используемую в советской психологии [48]. По Скиннеру, возможны две группы мотивов речевого высказывания, называемые им demand и contact.<360> Первая группа — это просьба, требование, желание, реализуемые в речевом высказывании; оно формулирует не какую-то сложную информацию познавательного характера, а известное эмоциональное состояние. Вторая группа мотивов имеет в своей основе намерение передать известное содержание, установить контакт с собеседником. Кроме того, Скиннер указывает на возможность «эхо-ответа» (echoic response), т. е. простого повторения стимула. Следующий («первый») этап порождения — это то, что можно назвать семантической интенцией, или замыслом высказывания. На этот счет есть разные точки зрения. Так, для большинства авторов, следующих за Н. Хомским, этот этап соответствует «стволу» дерева структуры предложения, т. е. тому его узлу, который обычно обозначается как S. Л. Долежал [19, 22] отождествляет его с «выбором подмножества элементарных языковых изображений (слов — основ) для заданных внеязыковых «событий» из множества слов данного языка» (а «прагматический» уровень кодирования он помещает после грамматического). К. Пала, в цитированной выше статье более точно говорит о «структуре Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 |
|
© 2008 |
|