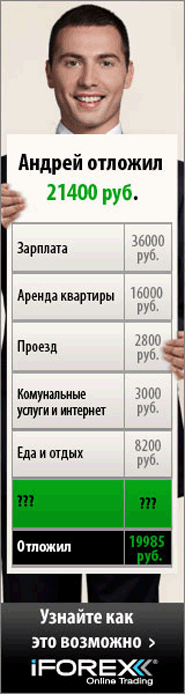|
РУБРИКИ |
Книга: Общее языкознание - учебник |
РЕКОМЕНДУЕМ |
||
|
Книга: Общее языкознание - учебниксовокупность речевых действий, имеющих собственную промежу<326>точную цель, подчиненную цели деятельности как таковой. Кроме того, и составные элементы речевой деятельности весьма различны. Это и типично умственные действия (например, планирование речевого высказывания), и действия внешние (например, активность органов речи), причем их взаимная связь и взаимообусловленность весьма трудно поддаются точному определению. Во-вторых, речевая деятельность принадлежит к типу наиболее сложных и по характеру представленных в ней мотивов и целей. Действительно, не так-то просто четко сформулировать даже такую, казалось бы, элементарную вещь, как цель речевого высказывания, т. е. то, что в практике научного исследования обычно называется «функцией речи». Речевая деятельность изучается различными науками. С точки зрения общего языкознания нас интересует лишь подход к речевой деятельности со стороны лингвистики и прежде всего — соотношение понятия речевой деятельности с понятием языка. Мы примыкаем в этом отношении к тем советским философам, логикам и лингвистам, которые разделяют реально существующий вне и помимо науки ее объект и формируемый этой наукой внутри объекта специфический предмет исследования [33, 71]; см. также работы Г. П. Щедровицкого. Речевая деятельность есть объект, изучаемый лингвистикой и другими науками: язык есть специфический предмет лингвистики, реально существующий как составная часть объекта (речевой деятельности) и моделируемый лингвистами в виде особой системы для тех или иных теоретических или практических целей. Сказанное совершенно не означает, что мы отрицаем реальное бытие языка как объективной системы. Мы хотим лишь отметить, что реальность языка не тождественна его «отдельности»: язык не существует как что-то отдельное вне речевой деятельности; чтобы его исследовать, его надо вычленить из речевой деятельности (либо пойти по другому пути, приравнивая к языку наше знание о структуре своей языковой способности). С другой стороны, хотелось бы со всей выразительностью подчеркнуть, что язык как объективная система ни в коей мере не носит исключительно материального характера: он является материально- идеальным (если брать его актуальный аспект) или идеальным явлением (если брать его виртуальный аспект). А признание идеального характера того или иного явления совершенно не обязательно влечет за собой в системе философии марксизма-ленинизма отрицание объективности его существования. Так или иначе, психолингвистику (или любую другую науку, подходящую к исследованию речевой деятельности или речевого поведения со сходных позиций), поскольку она не занимается формированием языковой способности, а только ее функционированием, не занимают проблемы, связанные с языком как объективной системой: ее интересует как раз его «субъ<327>ективный» аспект, его роль в формировании конкретного речевого высказывания и только. Это позволяет нам в дальнейшем не останавливаться здесь на анализе языка как объективной системы. Возникает вопрос, в какой конкретной форме существует язык внутри речевой деятельности. Не останавливаясь на этом подробнее, укажем лишь, что язык есть одна из форм объективной обусловленности речевой деятельности, определенным образом отграничиваемая совокупностью факторов, необходимых для ее осуществления, поддержания и развития, или, если обратиться к принадлежащему И. М. Гельфанду и др. математическому представлению деятельности, — язык есть один из существенных параметров модели речевой деятельности [18, 67]. Выше мы отмечали, что потребности современной науки и практики приводят к необходимости отказаться от исторически сложившегося размежевания предметов исследования лингвистики и психологии и поставить вопрос как-то по-иному, по-видимому, — выделить такую систему категорий, которая удовлетворяла бы потребностям всех или почти всех наук, занимающихся исследованием речевой деятельности. Подробный анализ такой системы категорий дается в другом месте [41, 57—60; 42, гл. 1]. Здесь же приведем лишь результаты такого анализа. Очевидно, наиболее важными как с точки зрения лингвиста, так и с точки зрения психолога и удовлетворяющими также потребностям логики и философии являются два противопоставления, две пары категорий: язык как речевой механизм — язык как процесс (как употребление) и язык как абстрактная система — язык как речевой механизм. Ниже мы, как уже сказано, будем употреблять для языка как речевого механизма термин «языковая способность», для языка как абстрактной системы — «языковой стандарт», а для языка как процесса — «языковой процесс». Такая система трех основных категорий в изучении речевой деятельности соответствует в основном схеме, предложенной Л. В. Щербой в его статье «О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании» [91], а еще ранее — Ф. де Соссюром в материалах к его курсам по общему языкознанию [79, 142—159]. УРОВНИ ЯЗЫКОВОЙ СПОСОБНОСТИ И
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ В первом параграфе мы констатировали, что языковая способность не является ни формой организации внешних проявлений речевого поведения, ни «грамматикой», перенесенной в мозг. Иными словами, языковая способность, или психофизиологический механизм речи, характеризуется некоторой структурой и может быть представлена в виде своего рода порождающей модели, при<328>чем эта модель отлична от любой возможной модели языкового стандарта. Прежде чем говорить об устройстве такой модели, мы хотели бы подчеркнуть два момента: во-первых, эта модель не имеет аксиоматического характера, а является генетической [73]; во-вторых, мы отнюдь не претендуем в этом и следующих параграфах на сколько-нибудь исчерпывающее описание этой модели (такого описания и не существует), а остановимся лишь на тех ее особенностях, которые не вызывают сомнения при современном состоянии вопроса. В заключение настоящей главы мы попытаемся дать гипотетическое описание структуры порождающего психофизиологического механизма речи. Упомянем прежде всего тот общеизвестный факт, что членение речевого потока на единицы языка, единицы собственно лингвистические, и на единицы, являющиеся таковыми с точки зрения внутренней организации языковой способности, различно. Иначе говоря, даже если оставаться в пределах текста и ставить вопрос о делении его на отдельные сегменты, эти сегменты окажутся различными при различных подходах. Так, с точки зрения лингвистической вреку — два «слова», два отдельных сегмента; с точки зрения порождения речи это, безусловно, один сегмент, одно «слово», что доказывается невозможностью применения к его составным частям критерия потенциальной изолируемости (ни в, ни
реку не могут функционировать с тем же значением как самостоятельные высказывания). На самом деле все обстоит много сложнее. Один и тот же сегмент потока речи даже при чисто лингвистическом подходе может быть интерпретирован по-разному в зависимости от того, какой уровень системы языка мы на него «проецируем», т. е. из конкретных вариантов каких именно лингвистических единиц мы считаем его состоящим4. Один и тот же сегмент может быть представлен как вариант лексемы (лекса), как сочетание двух-трех или более вариантов морфем (морф) и соответственно большего количества вариантов фонем и звукотипов (фон и сон). Тот же сегмент при подходе с точки зрения порождающего механизма тоже может быть интерпретирован различно в зависимости от того, какой «блок» порождающего меха<329>низма мы рассматриваем. Каждый такой «блок» обеспечивает появление в потоке речи определенного класса единиц или, вернее, класса сегментов. «Выключив» тот или иной блок, мы или нарушим речевую способность вообще (если это «нижележащий» блок, например, механизм слогообразования), или будем порождать неполноценную речь с более элементарной, чем в обычном случае, синтагматической организацией (например, как это нередко бывает при афазии, человек сможет «порождать» отдельные слова, но окажется не в состоянии построить высказывание). Основная проблема заключается в том, каковы те классы сегментов и соответственно те «блоки» порождающего механизма» которые реально выступают в речевой деятельности. Впервые эта проблема была поставлена авторами монографии «Психолингвистика» (соответствующий параграф написан Ч. Осгудом). Согласно Осгуду, следует различать четыре уровня языковой способности и соответственно различные виды «психолингвистических единиц». Единицей мотивационного уровня служит предложение «в широком, неграмматическом значении слова» [131, 72] как для говорящего, так и для слушающего. Этот уровень «ведает» общей регулировкой сообщения. Второй, семантический уровень имеет дело с выбором возможных значений. Для говорящего единицей этого уровня, по Осгуду, является «функциональный класс» (нечто, примерно соответствующее «синтагме» Л. В. Щербы). Для слушающего, по мнению Осгуда, единица должна быть меньшей, и таковой является «нуклеус» (термин Дж. Гринберга [41,457; 105, 67—70]). Уровень последовательностей ведает вероятностными характеристиками «речевых событий»: единицей этого уровня для обоих собеседников служит такой сегмент, который представляет одно целое с точки зрения статистических взаимосвязей его компонентов, а именно — слово. Наконец, интеграционный уровень имеет дело с мельчайшими нечленимыми «кирпичиками» речи: для говорящего это, по Осгуду, слог, для слушающего — фонема. Необходимо сразу же добавить, что авторы монографии «Психолингвистика», кроме лингвистических и психолингвистических единиц, выделяют еще единицы психологические. Если психолингвистические единицы — функционально оперативные, то психологические — те, которые поддаются осознанию самим говорящим (слог, слово, предложение) [138, 60—61]. Остановимся на этой схеме. Уже независимо от экспериментальных данных и их интерпретации в глаза бросается зависимость модели Осгуда — Гринберга — Сапорты от «трехуровневой модели поведения», предложенной Осгудом. Эта особенность модели языковой способности обусловлена свойственным Осгуду представлением о неврологическом механизме поведения вообще. Вот схема его принципиальной модели поведения:<330> Уровень репрезентации rm
Sm ¯ Уровень интеграции s? — s? — s? ––––––––––> r? — r? — r? ¯ Уровень проекции S
R На уровне проекции речевые стимулы кодируются в нервные стимулы. На уровне интеграции эта отрывочная речевая информация интегрируется, т. е., исходя из прошлого опыта, мы строим на основании этих стимулов наиболее вероятную модель. Затем эта модель поступает на уровень репрезентации, где вызывает ту реакцию «опосредствованной репрезентации», которая ассоциируется с данной моделью
5 реакция», значение выступает как своего рода промежуточная реакция; если же мы имеем дело с порождением речи, с говорением, то оно, напротив, выступает как промежуточный стимул (в этом случае бихевиористы говорят о «самостимуляции»). Порождая речь, мы имеем сначала этот стимул на уровне репрезентации. Спускаясь на уровень интеграции и комбинируясь с опытом, накопленным в процессе восприятия на этом уровне (горизонтально направленная стрелка на схеме), этот стимул по ассоциации вызывает реакцию в виде «моторных образов», артикуляционных единств. Наконец, на уровне проекции все это обретает реальное звучание. Все эти уровни раз и навсегда заданы в неврологической структуре организма. При усвоении языка они лишь «включаются», как начинает течь электрический ток по проводу при повороте выключателя. На уровень проекции опыт вообще не влияет. На уровне интеграции он выступает как чисто статистический фактор: мы получаем такую модель, которая в нашем опыте ниболее часто была связана с данным набором речевых стимулов. На уровне репрезентации опыт обусловливает ассоциацию модели именно с данным, а не иным значением. Уровень репрезентации соответствует в изложенной выше системе психолингвистических единиц «семантическому» уровню. Уровень интеграции есть в обеих моделях. Уровень проекции лежит вне системы психолингвистических единиц — это уровень чисто исполнительный. Мотивационный уровень психолингвистической модели ведает общими характеристиками сообщения и не находит четкой параллели в «трехуровневой модели поведения». Точно так же обстоит дело и с уровнем последовательностей. Этот последний, вообще говоря, лежит вне данной модели: во всяком случае, в одной из последующих глав монографии (а именно — в пятой), в час<331>ти, принадлежащей перу Флойда Дж. Лаунсбери, вводится четкое разграничение «статистической структуры» и «лингвистической структуры» сообщения, причем указывается, что статистический анализ игнорирует то, что является основным для лингвистики — различение уровней структуры [121, 94]. Аналогичное разграничение двух параллельных механизмов, один из которых ведает возможностью появления данного элемента, а другой вероятностью его появления, проводится в некоторых более новых работах, например [107; 133]. После 1954 года, когда появились новые психолингвистические модели, опирающиеся на трансформационную грамматику, это лишь частично затронуло трактовку психолингвистических уровней и единиц. Правда, идея априорной заданности говорящему системы уровней языковой способности сменилась идеей врожденности лишь основных физиологических предпосылок, на базе которых языковая система складывается уже «самостоятельно» в процессе общения ребенка со взрослым, но тем не менее формирование языковой способности сохранило в трактовке психолингвистов «трансформационного» направления свой механический характер. Имеющиеся у ребенка физиологические предпосылки являются для них не фундаментом, на котором можно построить дом разной архитектуры, а рельсами, по которым «катится» языковая способность в совершенно определенном направлении после того, как ее «подтолкнет» среда. Ср. утверждение Н. Хомского, что элементы речевого механизма «могут развиваться в основном независимо от подкрепления, благодаря генетически детерминированному созреванию» [96, 44]. Подобное понимание возникло в результате полемического противопоставления этой точки зрения точке зрения бихевиористской психологии речи (представленной, в частности, книгой Скиннера), сводящей, наоборот, все формирование речевой способности к системе подкреплений. Особенно ясно различие этих двух точек зрения в трактовке детской речи, где оно вылилось в продолжительную и интересную дискуссию между М. Брэйном и группой гарвардских психолингвистов — учеников Дж. Миллера. М. Брэйн отстаивал в этой дискуссии идею «контекстуальной генерализации»: «Если субъект встречал ранее предложения, в которых какой-либо сегмент (морфема, слово или синтагма) встречается в определенной позиции и определенном контексте, а затем он стремился поставить этот сегмент в других контекстах в ту же позицию, можно считать, что контекст сегмента генерализован... Контекстуальная генерализация относится к общему классу генерализованных стимулов и реакций» (см. [92], там же опубликованы и остальные материалы дискуссии). Его оппоненты — Т. Бивер, Дж. Фодор и У. Уэксел — считают, что это верно лишь относительно некоторых, особенно несвободных сочетаний слов, но что этот механизм — по существу своему ассоциативный, т. е. сводящийся к взаимоотношению сти<332>мула и реакции, — не может объяснить грамматическое единство предложения, для чего мы нуждаемся в иной (трансформационной) модели. В советской науке понятие уровня языковой способности связано с предложенной Н. А. Бернштейном теорией неврологических уровней построения психофизиологических процессов. Эта теория является частью его общей концепции и ближе всего подходит к современному пониманию физиологических механизмов деятельности. Согласно взглядам Н. А. Бернштейна, управление всяким движением (в широком смысле) осуществляет «сложная многоуровневая постройка, возглавляемая ведущим уровнем, адекватным смысловой структуре двигательного акта (в терминах теории деятельности — цели деятельности. — А. Л.), и реализующим только самые основные, решающие в смысловом отношении коррекции. Под его дирижированием в выполнении движения участвует... ряд фоновых уровней, которые обслуживают фоновые или технические компоненты движения... Процесс переключения технических компонентов движения в низовые, фоновые уровни есть то, что называется обычно автоматизацией движения. Во всяком движении, какова бы ни была его абсолютная уровневая высота, осознается один только его ведущий уровень... И степень осознаваемости, и степень произвольности растет с переходом по уровням снизу вверх» [4, 36—37]. В речевой деятельности участвует не весь «комплект» уровней, но лишь некоторые из них. Наиболее высоким в иерархическом отношении является уровень смысловой связной речи, на котором функционально оперативной единицей является предложение или высказывание в целом. Следующий уровень — уровень предметного действия, или (применительно к речевой деятельности) уровень называния, единицей которого является слово. Оно имеет актуальную психофизиологическую самостоятельность лишь в том случае, когда действие происходит на предметном уровне, т. е. когда слово берется как целое со своей семантической стороны. Дальнейшие уровни самим Н. А. Бернштейном не выделены. По-видимому, руководствуясь его идеями, можно выделить по крайней мере еще один — слоговой уровень. Проблема осознания психолингвистических единиц (т. е. проблема «психологических единиц») решается в модели Н. А. Бернштейна следующим образом. Как мы только что видели, в речевом механизме, как во всяком физиологическом механизме, обеспечивающем процесс деятельности, в любой момент времени должен быть ведущий уровень. Другие уровни являются в это время фоновыми. Иерархии ведущего и фоновых уровней соответствуют различные ступени осознания. А. Н. Леонтьев [45] в одной из своих статей выделяет три таких ступени: а) актуальное осознание, б) сознательный контроль, в) неосознанность. По-видимому, есть<333> основания для выделения между б) и в) еще одной ступени — бессознательного контроля [41, 123 и след.]. В обычной (спонтанной) речи, где ведущим уровнем служит уровень связной речи, этому уровню соответствует ступень актуального сознавания (сознается содержание высказывания). В этих условиях словесно-предметному уровню соответствует ступень сознательного контроля (но слово может оказаться «сознательно контролируемым только в том случае, если оно станет прежде предметом специального действия и будет сознано актуально» [45, 21]), уровню операторов — ступень бессознательного контроля, слоговому уровню — ступень неосознанности. Если же актуальное сознавание «спускается» на словесно- предметный уровень, происходит своего рода «скольжение» ступеней осознания по иерархии уровней. С собственно осознанием психолингвистических единиц не следует смешивать их вычленение [41, 128—129]. Это не регулируемая произвольным актом внимания, кажущаяся спонтанной операция выделения опорных точек в речевой деятельности. Вычленение не связано с автоматизацией речевых действий; по- видимому, вычленимы в принципе те элементы речевой деятельности, которые соответствуют замкнутой системе команд в органы артикуляции — например, слог, слово, предложение. Если номенклатура осознаваемых элементов при вычленении задается структурой самого речевого механизма, то при второй, высшей форме осознания мы можем задавать ее в известных пределах произвольно. Иными словами, от того, как мы организуем процесс свертывания и автоматизации речевых действий, зависит характер единиц, осознаваемых данным носителем языка. Например, любой взрослый носитель языка, как правило, осознает морфемную структуру слова; но осознание этой структуры, вернее, ее эквивалента в языковом сознании, может быть различным в зависимости от того, какая грамматическая модель была задана данному носителю языка для усвоения, т. е. от структуры «школьной грамматики». Различие вычленения и собственно осознания соответствует выдвигавшемуся ранее в литературе различию первичного и вторичного речевого анализа. «Для первого... характерно восприятие слова в результате однократного сосредоточения активного внимания при неравномерном его распределении... При вторичном анализе внимание распределяется равномерно, причем опознавание происходит в результате постепенного переключения с одного элемента на другой, т. е. в результате произвольно избирательной его концентрации... Слово начинает осознаваться не как целостное, а как расчлененное» [59, 51]
6 Следует иметь в виду, что положения, изложенные выше, не только не являются общепринятыми, но и не получили пока сколько-нибудь детальной разработки. Между тем такая разработка была бы чрезвычайно желательной, ибо данная проблематика имеет чрезвычайно большое значение в связи с задачами обучения родному и иностранному языку.
ВНУТРЕННЯЯ РЕЧЬЯзык может входить в интеллектуальный акт, акт деятельности, на разных его этапах, в разных фазах. Во-первых, речевым может быть планирование действий, причем сами планируемые действия могут быть и речевыми и неречевыми. В этих двух случаях характер планирования совершенно различен. В первом случае это программирование речевого высказывания без предварительного формулирования плана средствами языка; во втором — это именно формулирование плана действий в речевой форме. Эти две функции речи в планировании деятельности нельзя смешивать, как это иногда делается7 : по-видимому, в таком смешении играет значительную роль то, что и то, и другое планирование нередко называется одинаково «внутренней речью». Во-вторых, речевыми могут быть сами действия. При этом соотношение речевых и неречевых действий в интеллектуальном акте может быть очень различным. Это различие может быть опять-таки двояким: во-первых, указанное соотношение может меняться за счет изменения длины речевого высказывания при тождестве остальных компонентов акта деятельности; во-вторых, за счет удельного веса речевых действий в акте деятельности в целом, т. е. в результате изменения структуры этого акта. В-третьих, речевым может быть сопоставление полученного результата с намеченной целью. Это происходит в тех случаях, когда акт деятельности достаточно сложен, обычно — когда интеллектуальный акт носит целиком или почти целиком теоретический характер (как это нередко бывает в деятельности, например, ученого). Наиболее типичной функцией речи в деятельности является первая функция — использование речи в планировании действий, в особенности неречевых. Существуют специальные методики, позволяющие изучать эту функцию речи даже в тех (наиболее частых) случаях, когда речь является внутренней. Наиболее<335> известна методика электрофизиологического исследования скрытой артикуляции, разработанная и применяемая московским психологом А. Н. Соколовым (см. в особенности [74; 75; 77]). Ему удалось показать, что наиболее сильная электрофизиологическая активность органов артикуляции связана «с вербальным фиксированием заданий, логическими операциями с ними, удержанием промежуточных результатов этих операций и формулировкой ответа «в уме». Все эти факты особенно отчетливо выступают при выполнении трудных, т. е. нестереотипных и многокомпонентных заданий, как, например, при решении арифметических примеров и задач в несколько действий, чтении и переводе иностранных текстов лицами, слабо владеющими данным языком, при перефразировке текстов (изложении их «своими словами»), запоминании и припоминании словесного материала, письменном изложении мыслей и т. п. — то-есть в тех случаях, когда выполняемая умственная деятельность связана с необходимостью развернутого речевого анализа и синтеза...» [74, 178]. Напротив, редукция мускульных напряжений речевого аппарата возникает «в результате: 1) обобщения умственных действий и образования на этой основе речевых и мыслительных стереотипов, характерных для «свернутых умозаключений», 2) замещения речедвигательных компонентов другими компонентами речи (слуховыми — при слушании речи и зрительными — при чтении), 3) появления наглядных компонентов мышления...» [74, 178]. Существуют и другие исследования, показывающие, как часто во внутренней речи собственно речевые компоненты подменяются слуховыми, зрительными и т. д. Н. И. Жинкин осуществил, пользуясь весьма простой методикой (испытуемые в процессе решения задачи должны были постукивать рукой по столу в заданном ритме), очень интересный эксперимент. Оказалось, что в большинстве случаев (примерно тогда же, когда происходит редукция мускульных напряжений) постукивание не мешает внутренней речи, т. е. внутренняя речь переходит на другой код, по своей природе субъективный — код образов и схем [20; 22]. Специально природе этих вторичных образов (образов-мыслей), возникающих как следствие уже произведенного в речевой форме анализа и синтеза признаков предмета или явления, посвящена работа М. С. Шехтера [89]. В упомянутых здесь работах Н. И. Жинкина по внутренней речи анализируется случай, пограничный между собственно внутренней речью и планированием речевого действия (внутренним программированием высказывания). Испытуемому даются готовые слова, и он должен из них составить осмысленное высказывание. Здесь общим с внутренней речью является то, что перед испытуемым стоит задача оперировать с уже готовыми речевыми элементами, а не «порождать» их самостоятельно. Однако есть и момент, общий с планированием речевого действия, а именно —<336> необходимость на определенном этапе решения задачи «догадаться о грамматической конструкции фразы» [90, 121], т. е. построить «в уме» модель фразы. В целом, однако, этот случай ближе к внутренней речи. Исследований же, посвященных планированию речевых действий в чистом виде, практически не существует ввиду крайней методической сложности и отсутствия сколько-нибудь общепринятой модели такого планирования, которая могла бы быть взята за основу. Единственными работами, где эта проблема ставится, являются классическая книга Выготского «Мышление и речь» и недавно переведенная на русский язык книга Дж. Миллера, Ю. Галантера и К. Прибрама [16; 53]. Авторы последней считают, что нормально существуют два «Плана» высказывания: «моторный План предложения» и иерархически более высокий «грамматический План», т. е. «иерархия грамматических правил образования и перестановки слов». Однако и у них нет четко разработанной модели этих «Планов». Тем не менее самая идея предварительного программирования речевого высказывания в настоящее время признана большинством исследователей. Еще более неясным является вопрос о том, как осуществляется планирование внутренней речи. В том, что такое планирование имеет место, нет оснований сомневаться; ведь внутренняя речь не что иное, как речевое высказывание, хотя и сильно редуцированное и имеющее специфическую структуру. Но, насколько нам известно, в научной литературе отсутствуют какие-либо указания на этот счет; по всей -видимости, внутренняя речь развертывается стохастически, то- есть порождение ее не требует предварительного планирования, но каждое предыдущее звено вызывает появление последующего. В этой связи возникает интересная проблема первичности «лексемного синтаксиса»[41, 198 и след.]. Дело в том, что в спонтанной мимической речи глухонемых, а также в автономной речи детей, в речи нормальных детей в определенный период и т. д. существует единая модель построения высказывания, отмеченная еще Вундтом, S — (At) — О — (At) — V — (Part). Эта модель в известной мере отражается также и в построении обычной (звучащей) речи, обычно в тех языках, где морфемика играет относительно незначительную роль. Не исключено, что эта модель и есть модель построения высказывания во внутренней речи, а переход от внутренней речи к внешней осуществляется за счет своеобразного морфосинтаксического алгоритма, формирующегося у ребенка вместе с усвоением им грамматической системы языка. Впрочем, экспериментально изложенное здесь предположение не проверено. Но надо сказать, что изложенная здесь гипотеза о внутренней речи как линейной структуре восходит к идеям Л. С. Выгот<337>ского, трактовавшего внутреннюю речь как сочетание смыслов
8 бурный, хотя и не всегда обоснованный протест. Так, например, киевский психолог А. Н. Раевский решительно заявляет, что «внутренняя речь — это речь, отличная от внешней речи не по своей природе, а лишь по некоторым внешним структурным признакам. Нужно совершенно отбросить попытки видеть в ней речь со своими особыми синтаксическими правилами, отличными от обычной речи, и в особенности видеть в ней процесс, в котором слово, как форма выражения мысли и форма ее осуществления, умирает и сохраняется только семантическая сторона слова (Выготский). Дело в том, что слово в речи не может существовать вне его речевой формы, вне его говорения» [67, 45—46]. Едва ли последняя из цитированных фраз способна опровергнуть концепцию Выготского, как не могут ее опровергнуть и демагогические ссылки на И. М. Сеченова и И. П. Павлова. Во всяком случае, ни А. Н. Раевский, ни другие авторы, писавшие после Выготского о структуре внутренней речи (см. [66]), не смогли противопоставить его концепции никакой иной. В одной из своих недавних статей Н. И. Жинкин выдвинул мысль о специфическом «языке внутренней речи», каковым является, по его мнению, предметно- изобразительный код, причем «язык внутренней речи свободен от избыточности, свойственной всем натуральным языкам. Формы натурального языка определены строгими правилами, вследствие чего соотносящиеся элементы конкретны, т. е. наличие одних элементов предполагает появление других, — в этом и заключена избыточность. Во внутренней же речи связи предметны, т. е. содержательны, а не формальны, и конвенциональное правило составляется ad hoc лишь на время, необходимое для данной мыслительной операции» [23, 36]. Таким образом, Н. И. Жинкин возвращается к основной идее Выготского.
СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПОРОЖДЕНИЯ РЕЧИПроблема психологического «устройства» речевых действий распадается на две. Первая из этих «подпроблем» — природа, развитие и методы исследования семантической стороны слова. Вторая — природа, развитие и методы исследования формальной стороны слова — прежде всего грамматики, а поскольку грамматическое оформление происходит в рамках высказывания, то эту подпроблему можно охарактеризовать и как вопросе грамматической структуре высказывания. Соответственно и будет построено наше дальнейшее изложение: настоящий раздел будет посвящен механизмам, «обслуживающим» семантику, следующие — механизмам, «обслуживающим» грамматику. Не только для психолога или психолингвиста, но и для лингвиста сейчас является аксиомой различие предметной отнесеннести слова и его значения. Однако характер этого различия отнюдь не очевиден. Что такое предметная отнесенность слова? Это потенциальная возможность отнесения слова к определенному предмету или явлению, констатация того факта, что данный предмет входит в класс предметов, обозначаемых данным словом. Так, можно «отнести» слово стол к тому столу, за которым пишется эта страница. Однако «отнесение» соответствует лишь одному из трех компонентов связи значения [90, 65—66], а именно — функции метки (знак — обозначение предмета как целого со всеми его выявленными и невыявленными свойствами). Остаются еще два: функция абстракции (предметы А, В, С тождественны водном определенном отношении: знак обозначает это общее свойство) и функция обобщения (знак как обозначение класса предметов). Однако это отличие предметной отнесенности от значения носит, так сказать, логический или металингвистический характер. Психологическую же. специфику значения в свое время прекрасно охарактеризовал Л. С. Выготский, указавший, что оно — «единство обобщения и общения, коммуникации и мышления» [15, 51—52]. Иначе говоря, мы обозначаем словом то и настолько, что и насколько представляет интерес с точки зрения потребностей общения. А с точки зрения потребностей общения представляет интерес, конечно, в первую очередь то, что соответствует коллективному опыту человечества в целом или опыту отдельного человеческого общества (народа, языкового коллектива), т. е. человек обозначает словами в окружающем его мире те элементы, которые так или иначе включены в практическую деятельность общества. Другой вопрос — что обозначать их он может по-разному, в зависимости от условий общения. В этой связи можно обратиться к понятиям «символического поля» и «указательного поля» у К. Бюлера [41, 182—183; 95, 149], показавшего, что для психологической характеристики значений некоторых слов любого языка достаточно непосредственной коммуникативной ситуации (например, местоимения), в то время как другие можно интерпретировать, только привлекая дополнительный контекст. Употребляя в речи слово, мы можем иметь две совершенно различные с психологической стороны ситуации. Одна из них<339> есть ситуация потенциального употребления слова, когда мы не имеем налицо реального предмета, обозначаемого этим словом. Другая — ситуация актуального употребления того же слова относительно определенного предмета. Ср. Человек — это звучит гордо или всякий человек на это способен, с одной стороны, и вошел высокий
человек в сером костюме — с другой. Это различие было отмечено А. А. Брудным, предложившим ввести понятие «семантического потенциала» и противопоставлять друг другу два «семантических состояния» слова — внеситуативное, или системное, и ситуативное [10]
9 и реальная ситуация. Психологическая реальность различия «семантических состояний» хорошо иллюстрируется данными об афазии: афатики часто бывают не в состоянии понять слово во внеситуационном его употреблении, хотя ситуативно они его понимают. Не вдаваясь в изложение существующих в научной литературе соображений о природе и механизме действия факторов контекста и ситуации, ограничимся указанием на две существующих концепции. Одна из них принадлежит Б. Малиновскому, утверждавшему, что в некоторых «первобытных» языках, в частности в языках Океании, интерпретация речевого высказывания в гораздо большей мере определяется прагматическим фактором, «контекстом ситуации», чем в европейских языках [123, 306 и след.]. Речь для океанийца — это, по Малиновскому, speech-inaction, речь в действии. По-видимому, Малиновский не прав в своей характеристике океанийских языков. Но в принципе в его концепции есть рациональное зерно. Оно заключается в том, что на ранних этапах развития словесного мышления и речи участие прагматического компонента, без сомнения, было бульшим, чем на современном этапе. Некоторые полагают, что можно говорить применительно к определенной эпохе даже о «суждениях восприятия», основанных на личном опыте говорящего [65, 50]. Этот термин неудачен, ибо едва ли первобытный человек находился по отношению к окружающей действительности в положении пассивного субъекта восприятия: он активно действовал в этой действительности. Однако сам факт правдоподобен: в пользу допущения о «суждениях восприятия» или, как их лучше называть, «чувственно-практических суждениях» [35, 119— 120], говорят некоторые данные о пережиточных особенностях мышления, собранные этнографами и психологами у «первобытных» народов. Так, например, в некоторых племенах нашей Средней Азии в конце 20-х гг. советский психолог А. Р. Лурия столкнулся со стариками, которые избегали делать умозаключения о<340> предметах или явлениях, с которыми они непосредственно не сталкивались. Исходя из подобных данных, многие современные психологи склонны говорить о симпрактическом этапе речевого мышления. Вторая точка зрения на соотношение ситуации и контекста представлена различными теориями значения в рамках бихевиористской психологии. Все эти теории характеризуются тем, что понимают значение исключительно прагматически — как «ответ», реакцию (Уотсон), потенциальную реакцию (Джекобсон), «опосредствующий ответ» (Осгуд), «предрасположенность поведения» (Стивенс, Браун) и др. По существу сюда же тяготеют и различные неопозитивистские трактовки значения как системы действий по определению понятия (Бриджмен), последствий использования знака (Пирс) и т. д. Ошибочность такого подхода к значению хорошо вскрыл И. С. Нарский, писавший, что «в действительности... действие субъекта, вызываемое знаком, вторично по отношению к значению: значение образует как бы разрешенный круг случаев, внутри которого операции субъекта при всех индивидуальных их различиях соответствуют данному значению» [54, 15—16]
10 К прагматической стороне проблемы значения имеет самое прямое отношение проблема значения и смысла слова. Ниже, говоря о смысле, мы будем опираться на понимание его школой Л. С. Выготского, и в частности — А. Н. Леонтьева. А. Н. Леонтьев определяет смысл как «отношение мотива и цели» [45, 28]. При одной и той же цели действия смысл действия изменяется с изменением мотива деятельности. Иными словами, слово с одним и тем же объективно-языковым значением для каждого носителя языка (и более того — в каждом акте деятельности) приобретает свое субъективное осмысление. Смысл можно охарактеризовать как способ вхождения значения в психику. Если «значение представляет собой отражение действительности независимо от индивидуального, личностного отношения к ней человека», то смысл определяет, «чем оно (значение. — А. Л.) становится для меня, для моей личности» [44, 28]. В настоящей работе мы не имеем возможности дать развернутую интерпретацию смысла применительно к лингвистической проблематике и указать на все следствия, которые следуют из введения понятия смысла в круг нашего исследования, см. [41, 168; 44]. Поэтому укажем лишь на то, что является с нашей точки зрения главным: понятие смысла, коррелятивное понятию значения, есть эквивалент этого последнего в конкретном акте деятельности. Иначе говоря, при анализе факторов, направляющих такой акт, смысл выступает как заместитель значения; хотя субъективно<341> мы относимся к смыслу как к значению, но реально руководствуемся в своих действиях смыслом, а не значением. Это особенно ясно видно, если мы обратимся к смыслу и значению не слов, а реальных предметов, «участвующих» в деятельности человека. Так, луддиты, разрушавшие станки, свято верили, что они руководствуются в своих действиях не личным (или групповым) интересом, а тем, что станок — «адская машина», порождение дьявола. Смысл не связан исключительно с личностными факторами, и в этом важное преимущество учения о смысле по сравнению с другими психологическими концепциями значения. Помимо индивидуального опыта и конкретной ситуации, смысл в значительной мере связан с профессиональной, социальной и вообще групповой принадлежностью данного человека. Мотив, порождающий смысл, — это чаще всего мотив, общий нескольким людям. Поэтому внутри языкового коллектива распределение смыслов соответствует внутренней структуре этого коллектива. То, что в годы господства в советской науке вульгарного социологизма относилось за счет «классовой природы языка», — это в значительной своей части относится к области системы смыслов. Собственно говоря, и то, что обычно называется проблемой «словесных ассоциаций», есть проблема регистрации как раз смыслов. Это хорошо показала Т. Слама-Казаку [140], испытуемые которой в год неурожая дали совершенно иные (и очень схожие у разных лиц) ассоциации, чем в благополучный с этой точки зрения год. Впрочем, и на других работах это видно достаточно хорошо. Словесные ассоциации вообще исследованы чрезвычайно детально. Начало этому исследованию было положено в 80-х гг. прошлого века Гальтоном, Вундтом и Эббингаузом; классическим трудом в этой области является монография Тумба и Марбе «Экспериментальные исследования психологических основ аналогического образования в языке» [144]. Количество работ, где используется методика словесных ассоциаций, бесконечно; существует множество вариантов этой методики. В частности, следует упомянуть о различии так называемых «свободных ассоциаций» и «опосредствованных ассоциаций». Пример свободной ассоциации:
небо — голубое; из 50 испытуемых Дж. Диза 40 реагировали на слово небо (sky) именно так. Пример исследования по методу опосредствованной ассоциации: мы связываем ассоциацией в уме испытуемого слова А и В (например, крыша и биллиард), затем В и С (биллиард и шхуна) и исследуем, отразилось ли это на ассоциативной связи крыши и шхуны, т. е. А и С. Всего существует три типа «парадигм опосредствования»: 1) А — В; В — С; А — С?; 2) А — В; С — В; А — С?; 3) В — А; А — С? [115]. Другое важное различение — это различение «синтагматических» и «парадигматических» ассоциаций. Приведенный выше пример с небом — классическая «синтагматическая» ас<342>социация. Не менее классический пример «парадигматической» ассоциации — известный эксперимент-фокус: мы заставляем испытуемого считать вслух и одновременно требуем у него «свободных ассоциаций» на слова
дерево, птица и поэт. Подавляющее большинство русских испытуемых отвечает на эти стимулы словами яблоня, курица и Пушкин. Интересно, что типичной ассоциацией со словом tree в экспериментах американских психологов тоже оказалось apple11 . Помимо смысла, ассоциативный эксперимент фиксирует еще два компонента психологического «переживания» значения: аффективно-эмоциональную окраску и собственно индивидуальное дополнительное содержание, вкладываемое нами в слово. Разграничить все эти три компонента чрезвычайно сложно хотя бы ввиду того, что до сих пор отсутствует не только психологическая, но даже и лингвистическая теория эмоциональной стороны речи. Несколько забегая вперед, скажем, что исследование ассоциаций представляет интерес и с точки зрения грамматики. Общеизвестно, например, что есть «предпочтительные» в грамматическом отношении типы ассоциаций: на существительное испытуемый чаще всего реагирует существительным и при этом чаще всего (в 77 % случаев) — парадигматически. Напротив, непереходные глаголы в 58% вызывают синтагматическую ассоциацию. Дж. Дженкинс поставил специальные эксперименты для доказательства того, что результаты ассоциативного эксперимента в принципе могут быть использованы для изучения процесса грамматического порождения в предложении; оказалось, в частности, что в эксперименте по методу Тэйлора (так называемая «Cloze procedure»), где требуется поставить слово на место вычеркнутого слова в предложении, пробел заполняется по тем же самым закономерностям, которые известны из исследования свободных ассоциаций [99, гл. 5—7; 114]. Подавляющее большинство ассоциативных экспериментов связано с совершенно определенной (прагматической) интерпретацией значения, и здесь уместно упомянуть о двух важнейших видах такой интерпретации. Для Ч. Осгуда значение — это «процесс или состояние поведения организма, использующего знак, которое рассматривается как необходимое следствие восприятия знаковых стимулов и необходимый предшественник производимых знаковых реакций» [134, 9]. При этом значение рассматривается им как потенциальная реакция, как своего рода «предрасположение» к определенной реакции. Для К. Нобла, напротив, значение (или «осмысленность», meaningfulness) определяется через «ассоциативную силу» стимула: можно «измерять» эту «ассоциативную силу», подсчитывая среднее количество ассоциаций,<343> вызываемых данным словом в минуту («величина
т»). Осмысленность Нобл определил как «класс операций, позволяющих дать количественную характеристику способности вербальных стимулов вызывать множественные ответы» [130, 84]. Наиболее известна, однако, не нобловская, а осгудовская методика измерения значений. Следует сразу же оговориться, что никаких «значений» Осгуд не измеряет: он измеряет прежде всего аффективную окраску слова и в какой-то мере его смысл. Основная идея Осгуда заключается в том, что если предложить испытуемому последовательно помещать данное слово в любую точку шкалы между различными антонимичными парами прилагательных оценочного характера (типа
сильный — слабый, большой — маленький и т. д.), то, количественно обрабатывая результаты, можно получить для каждого слова известные константы. Такие константы действительно имеются, причем получается даже положительная Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 |
|
© 2008 |
|