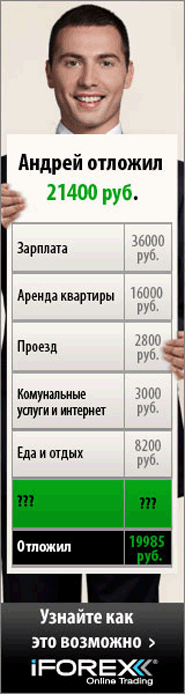|
РУБРИКИ |
Воспитание в древней Греции |
РЕКОМЕНДУЕМ |
||
|
Воспитание в древней ГрецииАнтичная культура вырастает на реальной почве, из реального источника. Она - синтез идеального и реального в реальном. Поэтому, она по преимуществу телесна. В телесности тоже ведь есть свой смысл и своя идея. В телесности тоже ведь есть своя бесконечность. И вот, античная культура есть актуальная бесконечность тела. Это апофеоз биологически-прекрасного, идеально- божественного тела. Поскольку тело это есть не просто обычное человеческое тело, с его слабостью, болезнями и смертью, оно необходимо есть идеальное тело. Это - такое тело, в котором нет ничего, кроме духа. И это такой дух, в котором нет ничего, кроме тела. Это - полная взаимопронизанность духа и тела, абсолютное равновесие духовного и телесного. Отсюда, античное тело с диалектической необходимостью оказывается человеческим телом, а основная интуиция античности с диалектической необходимостью оказывается скульптурной интуицией. Античная интуиция есть узрение тела с резкими и точеными формами, вырастающего на темном фоне и отчетливо вырисовывающегося на нем. На темном фоне, в результате игры и борьбы света и тени, вырастает бесцветное, безглазое, холодное, мраморное и божественно-прекрасное, гордое и величавое тело - статуя. И мир есть такая статуя, и божества суть такие статуи; и города-государства, и герои, и мифы, и идеи - все таит под собой эту первичную скульптурную интуицию. Религия. Если мы достаточно глубоко вчувствуемся в эти античные интуиции и приучим свою мысль к оперированию с такими интуитивными построениями, то вопрос о происхождении любой сферы античной культуры будет для нас уже принципиально разрешен. Нами будет найдена руководящая идея; и уже позитивное исследование должно показать, как зарождалась и развивалась, как завершалась и процветала и как вырождалась и гибла та или иная культурная сфера на лоне так понимаемой античной идеи. Это - задача эмпирического исследования. Мы же теперь обратим только внимание на то, что отдельные культурные области античного мира действительно зависят от обрисованной нами идеи и незримо управляются ею на протяжении всего своего существования. Несколько примеров будут нелишними. Что греческая религия и мифология образовались как стихия художественная по преимуществу - об этом можно и не говорить. Это все - слишком известно. Я тут сошлюсь уже не на Гегеля и Шеллинга, а на такого современного ультра-позитивного исследователя истории греческой религии, как Группе, который центральный период греческой религии так и озаглавливает: "Ausbildung der griechischen Religion durch die Kunst" , разделяя его еще на ряд более мелких периодов. Исследование Группе вообще показывает, как под влиянием искусства постепенно оформлялась и греческая мифология в целом и отдельные мифы. Проследить эту художественную эволюцию на отдельных богах было бы здесь весьма интересно, но, к сожалению, приходится ограничиться лишь указанием на труд Группе. Ясно только то, что какая-то специфически-телесная сущность должна быть в той религии, которая позволяла аркадским пастухам сечь крапивой своего Пана, в случае плохого заработка, а Гомеру в конце концов сознаться: Ныне уже не троян и ахеян свирепствует битва, Ныне с богами сражаются гордые мужи Данаи.6 Удивительна эта принципиальная телесность греческой религии. Она делает ее совершенно несоизмеримой с христианством, хотя логические и отвлеченные линии всякой религии настолько определенны и одинаковы, что доходят почти до тождества. Всем известна человекообразность гомеровских богов. Но надо, однако, понять до конца мистическое и диалектическое происхождение этого человекообразия. Тут нет ни малосовершенной морали, ни низких намерений авторов мифов, ни вообще недостатков, связанных якобы с недостаточным культурным развитием. Тут - единственно возможная для грека и вполне законная форма религиозных представлений. Не нужно скромно опускать глаза, когда мы слышим миф о том, что Арес и Афродита были пойманы Гефестом на месте преступления и что Гефест сковал их вместе, в том виде, как он их застал, так что боги, увидевши эту скованную пару, предались своему "гомерическому" смеху. Наше скромное опускание глаз в этом случае показывает, что мы стоим на какой-то другой, не греческой точке зрения и оцениваем античность с этой другой точки зрения, вместо объективного ее восприятия в ее самостоятельно-нетронутом виде. У Гомера читаем целый эпизод о том, как Гефест сковал железною сетью Афродиту и Ареса на их прелюбодейном ложе, причем Правда, Платон не одобряет этот смех богов. "Не следует нам любить и смех, ибо кто предается сильному смеху, тот напрашивается почти на столь же сильную и перемену.Нельзя допускать,- говорит он,- чтобы людей, достойных уважения, заставляли предаваться смеху; а еще менее прилично это богам. Поэтому мы не примем у Гомера и подобных речей о богах". Но на то Платон и занимается педагогикой. А вот у Прокла дело обстоит совершенно иначе. И это потому, что у Прокла не педагогика, но чистая символика и мифология. . Искусство и поэзия. Телесные интуиции, то ли в виде зрительного пластического образа, то ли в виде преобладания телесных характеристик над смысловыми и духовными, то ли в каком-нибудь другом виде, лежат в основе и греческого искусства. Нечего и говорить о том, что у греков существует один термин для понятия "искусства" и "ремесла", что "практическими" и "утилитарными" являются самые яркие "идеалисты". Таковы - Сократ со своим утилитарным взглядом на искусство, Платон со своим подчинением художественного творчества религиозным и общественным задачам, Аристотель со своей теорией "музыкального" Воспитания, Плотин со своим подчинением художественного эроса мистическому восхождению и т. д., и т. д. Немыслим был взгляд на чистое искусство как на нечто ценное и даже просто возможное. "Искусство для искусства" - невозможная вещь для античности. Учение Канта о бескорыстии эстетического наслаждения показалось бы греку диким извращением нравов и варварской порочностью и глупостью. Эта телесная придавленность и духовная несвобода лучше всего иллюстрируется отдельными искусствами, как они трактовались и существовали в Греции. Поговорим о наиболее ясных примерах - из поэзии. О пластичности греческой поэзии писано очень много. Но можно сказать, что далеко не все исследователи одинаково хорошо и глубоко чувствуют эту пластику. Пластика греческой поэзии не есть нечто только внешнее или только украшающее. Она существенно организует самый смысл и структуру этой поэзии. Можно не говорить специально о Гомере, так как и всякий эпос более или менее пластичен, и везде в эпических сказаниях телесное изображение заслоняет внутренне развивающуюся логику субъекта. Но то же самое, однако, надо сказать и о греческой драме. Здесь также почти полное отсутствие самостоятельной логики событий духа; и действия оказываются почти немотивированными. Судьба тут не есть имманентная логика жизни, но насильственно врывающийся извне слепой случай. Почему Эдип убил своего отца и женился на своей матери,- это так и останется неизвестным навсегда, хотя и ясно, что он - ответчик сам за себя, ибо не только Плотин мыслит себе человека как самостоятельного актера на мировой сцене, "разыгрывающего" войну, вражду, взаимное пожирание и смерть, но отказать человеку в свободной воле не осмелился даже "механист" Эпикур. В особенности статуарность и пластика трагедии видна на писателях, в которых кульминирует аттический гений, на Эсхиле, Софокле и Эврипиде. У Эсхила трагедия почти ничего общего не имеет с нашей драмой. Это - своего рода лирические оратории, в которых монологи и десятки, сотни стихов уничтожают в корне всякую внутреннюю логику и динамику жизни. Прометей висит на скале целую трагедию, и действие ни на шаг не подвигается в течение всей трагедии. В "Семи против Фив" эпическое чередование монологов доведено до полного схематизма. Характеры - одноцветны, неприступны, монолитны. Каждый герой стоит перед нами как статуя; и мы не видим, а только верим и догадываемся, что между этими статуями происходит какая-то драма и трагедия. Оценка убийства Орестом своей матери, хотя и отличается большей пространностью от простого гомеровского одобрения этого события, все же получает окончательную форму и смысл только с появлением Афины. Проклятие, тяготеющее над всем родом и тем ослабляющее или часто просто уничтожающее драматизм действующих лиц, вполне налицо не только в эпосе, но и у трагиков. Орест как будто и сам проявляет инициативу в мести за отца; но оказывается, что и тут решающую роль играет повеление Аполлона. Даже самые мучения Ореста даны в виде Эринний, о пластическом образе которых у Эсхила можно было бы написать целое небольшое исследование. Развязка сплошь да рядом принадлежит богам, а не людям. Наконец, наличие длиннейших хоров у Эсхила, наполняющих большую часть его трагедий, уже достаточно говорит об отсутствии у него психологии, трагедии и драмы в нашем смысле слова. Что такое хор? Это есть как бы объективированная мысль, отелесенное чувство, обезличенный субъект. Это - мысль, чувство и субъект - в пластической трактовке. Быть может, еще ярче сказывается основная античная интуиция на характере древнегреческой музыки. Если западная драма ни в каком случае не может быть помещаема в один отдел с драмой античной, то музыка древних есть нечто уже совсем несоизмеримое с музыкой западной. При нашей обычной, ходячей "классификации" искусств, где мы распределяем искусства самым внешним и несущественным образом, т. е. по роду материала, из которого сделано произведение, мы должны стать совершенно в тупик перед тем явлением, которое именуется греческой музыкой. Уже о Пасторальной симфонии Бетховена можно сказать, что она настолько же близка к ландшафтам Рембрандта, насколько к искусству Палестрины, а футуризм и Пикассо почти ничего не имеют общего с бытовой и реалистической живописью старых времен. То же надо сказать и о музыке греков. Она гораздо ближе к Фидию, чем к Баху и Бетховену. Грек и здесь продолжает как бы ощупывать статую, хотя, казалось бы, столь бестелесное искусство, как музыка, и очень мало дает к этому оснований. Я отмечу здесь две-три характерных черты. Греческая музыка есть музыка почти исключительно вокальная. Инструменты немногочисленны и поразительно примитивны, и существуют они почти исключительно для сопровождения. Музыка имела значение лишь как придаток поэзии. Она не имела у греков самостоятельного значения; и для Аристотеля музыка - лишь "главнейшее из украшений трагедии". Музыка только подчеркивает содержащиеся в самой поэзии мелодические и ритмические отношения. Это - в значительной мере лишь выразительная декламация или же речитатив .Платон отнюдь не высказывает никакого парадокса, когда пишет: "Никогда Музы не смешали бы вместе голоса зверей, людей, звуки орудий и всяческий шум с целью воспроизвести что-либо единое. Человеческие же поэты сильно спутывают и неразумно смешивают все это, так что вызвали бы смех тех людей, которые, по выражению Орфея, получили в удел "возраст услад"; эти-то ведь видят, что здесь все спутано. Подобного рода поэты отделяют, сверх того, ритм и облик от напева, прозаическую речь помещают в стихи, а, с другой стороны, они употребляют напев и ритм без слов, пользуясь отдельно взятой игрой или на кифаре, или на флейте. В таких случаях, т. е. когда ритм и гармония лишены слов, очень трудно бывает распознать их замысел и какому из достойных внимания роду воспроизведения употребляется это произведение. Необходимо, впрочем, заметить, что, насколько подобного рода искусство весьма пригодно для скорой и без запинки ходьбы и для изображения звериного крика, настолько же это искусство, пользующееся игрой на флейте и на кифаре, независимо от пляски и пения, полно немалой грубости. Применение отдельно взятой игры на флейте и на кифаре заключает в себе нечто в высокой степени безвкусное и достойное лишь фокусника". Грек не мог бы стерпеть нашего оркестра; это для него было бы просто какофонией и безобразием, безвкусием. Тут действовал строгий императив, не раз формулированный тем же Платоном: "Гармония и ритм должны следовать словам; "размер и гармония должны сообразоваться со словом, а не слово с ними". Итак, греческая музыка есть искусство преимущественно вокальное и словесное, где слово подчиняет себе ритм и мелодию и где никакой инструмент не имеет самостоятельного значения. . Математика и космология. Скульптурна и осязательна у греков не только поэзия и музыка или вообще искусство. Скульптурна наука - математика, физика, астрономия. Об античном стиле математики уже достаточно говорилось выше; и тут трудно сказать что-нибудь лучше, чем сказал Шпенглер. И кажется, об этом меньше спорят. Но физику и астрономию все еще продолжают причесывать на западный манер; и конечно, в результате такого причесывания получается нечто в высокой мере наивное, бездарное и вялое, какие-то басни и анекдоты, вместо подлинной греческой физики и астрономии. Философия и Воспитание Однако самое, быть может, замечательное выражение основной скульптурно-световой и осязательно-пластической интуиции античности заключено в ее философии; и тут мы вплотную подходим к разрешению главного вопроса нашего очерка, к вопросу о происхождении древнегреческих теорий символизма. Уже и сейчас нам ясно, что принципиально не может быть у греков такой философии, которая не была бы эстетикой, и такой эстетики, которая не была бы в то же время философией, и именно "первой философией", употребляя термин Аристотеля. Бытие для греков есть храм, или дворец, наполненный статуями: как же античная онтология может не быть эстетикой? И какая еще возможна для грека онтология, если построено бытие (и в нем мир и человек) как божественное изваяние, как мраморная статуя, как божественно-прекрасное и вечно-юное, цветущее тело? Там, где бытие есть нечто отдельное от статуарности, там, где быть - не значит быть изваянием,- еще возможно разделение онтологии и эстетики. Но это невозможно в Греции. И вот почему Плотин мог бы и не писать своих двух трактатов о красоте, и мы все равно знали бы с той же точностью его эстетику из его общей эйдологии, а эстетику Аристотеля меньше всего можно понять из его формальной "Поэтики", если не привлекать еще "Метафизики", которая на первый взгляд как раз ничего эстетического в себе не содержит. Эта печать статуарности и оптической, скульптурной телесности лежит на всех самых отвлеченных системах античной философии; и мы чувствуем, как не может успокоиться ни мысль Платона, ни мысль Аристотеля, ни мысль Плотина и Прокла, пока не дойдет до статуи, до светового символа, до мифа. В основе этой философии лежит скульптурная мифология. Ее задача, как философии,- уразумение этой мифологии в разуме. И она умирает тотчас же после того, как разумно и диалектически раскрывается в ней сущность первоначальной скульптурной мифологии. Миф питает философию, и скульптурно-осязательный материал отдает себя на волю логоса. Иссякает и исчерпывается этот опыт - кончается и умирает философия. Ясно нам также, что философская проблема человека и человеческого Воспитания есть проблема, прежде всего, эстетическая, хотя эта эстетика ничего общего не имеет с эстетикой и эстетическим Воспитанием Запада. Все наше предыдущее изложение должно показать, что всякое, решительно всякое Воспитание для грека есть Воспитание эстетическое, ибо сам человек есть не что иное, как статуя. Это доходило до буквального отождествления, так что Платон называет обучение пению и метрике просто воспитанием, а Цицерон, излагая мнение греков, высшую форму воспитания находит "in nervorum vocumque cantibus" . Что такое статуя? Это и тело, и не просто тело. Это - дух. Но мы теперь уже хорошо знаем, что это тело - только в меру необходимости для осуществления духа и это дух - в меру вмещения духовного начала телесным. Недаром учителя назывались в Греции "софронистами", т. е. целомудренниками, учителями целомудрия, а также "косметами", охранявшими в питомцах их "евкосмию". Кто не отдаст себе ясного отчета в диалектической сущности скульптуры, тот не поймет ни платонического учения об идеях, ни общеантичного учения о человеке и его Воспитании. Это Воспитание - насквозь эстетическое. Нет неэстетического воспитания, как нельзя сначала изготовить статую саму по себе, а потом изготовлять ее художественную форму. Что значит статуя без художественной формы? Это значит, что нет еще никакой статуи, что еще ничего не сделано для того, чтобы была статуя. Так и в воспитании человека. Когда греки хотели сказать, что данный человек совсем необразован, говорили: "Образованный" по-гречески - "мусический". И конечно, не только Эврипиду не хотелось "жить среди амусии". Может быть, только суровый Арес да неумолимая Мойра лишены хорических способностей, как на то намекают Эсхил и Софокл. Вот почему нельзя разграничить для грека сферу Воспитания эстетического и Воспитания вообще; и Аристотель, желая дать теорию общественного Воспитания, неизбежно ограничивается "гимнастикой" и "музыкой",- конечно, в античном значении этих слов. Делается понятным, почему иные философы протестовали против музыки, геометрии, астрономии и пр. "искусств", указывая на их непрактичность. И едва ли Диоген Лаэрций, говоря об этом, имеет в виду только одних киников. Все это необходимо помнить всякому, кто хочет понять и усвоить себе как античную философию вообще, так и теорию эстетического и всякого иного символизма, напр. хотя бы педагогическую теорию. Эстетическое Воспитание тут абсолютно неотделимо ни от физического, ни от морального,- ни от умственного Воспитания. Только в свете предложенного мною изображения исходного пункта античных интуиции можно понять такие системы Воспитания, как Платона, Аристотеля, пифагорейцев и Плотина. Изучая все эти тексты, решительно не знаешь, в какую рубрику отнести те или другие педагогические построения, в эстетическую или в моральную. И кто разделяет эти сферы настолько, что находит возможным говорить отдельно о моральном Воспитании по Платону, Аристотелю и Плотину и отдельно об эстетическом, тот вообще не разбирается в античной системе мысли и в античном Воспитании, и тот не знает подлинного "классического" стиля философии и педагогики. Даже мистик Плотин, говоря о восхождении души к умному свету, сравнивает это восхождение с работой скульптора и советует здесь не прекращать обделывать свою "статую", как и Платон, рисуя умную красоту, говорит о "блаженном зрении и созерцании", о "видениях", о "чистом сиянии", об "изображениях", об "умно-видимых формах тела"; и, наконец, "влюбленный" у него прямо готов приносить жертву предмету своей блаженной любви "как кумиру" .Прокл, развивая Платона и Плотина, вводит "демиургию" как диалектическую категорию (в триаде третьего начала: "парадейгма", "демиург", "идея"), не говоря уже об отмеченной уже ориентированности Аристотеля на произведениях искусства. Таким образом, на всех стадиях человеческого Воспитания, от внешнего тела до заумных экстазов, руководящей интуицией является интуиция тела и скульптурно-мифического существа. И можно говорить о разных предметах этого Воспитания, о теле, душе, уме и т. п., но нельзя говорить о разных методах этого Воспитания. Метод этот - единственный; он - эстетический, он же и моральный, он же умственный и "умный", он же, наконец, и религиозный, ибо все это для греков есть нечто единое и нераздельное. Вот почему, по сообщению Плутарха, музыка у древних была всецело "приурочена к богопочитанию и Воспитанию юношества", и вот почему Платон не понимает никакой нетелеснои музыки, утверждая с нашей точки зрения совершенно неоправданное соединение "ритма" и "гармонии" в хорею, т. е. в балетную форму: "Порядок в движении носит название ритма, порядок в звуках, являющийся при смешении высоких и низких тонов, получает название гармонии. То и другое вместе называется хореей". Философ - любитель мудрости, любитель знания. Но что это такое для грека - знание? Я думаю, многие филологи замечали, что слово , "узнаю", "познаю", у Гомера весьма часто соединяется с глаголом, означающим видение. Елена говорит Приаму (пер. Гнедича): "Вижу и многих других быстрооких данайских героев. Всех я узнала б легко и поведала б каждого имя". "Спешно с поверженных он совлекал прекрасные брони, вспомнивши юношей: прежде он их пред судами ахеян видел..." "И Эней пред собою познал Аполлона, в очи воззревши". "Знал я тебя, предчувствовал я, что моим ты моленьем тронут не будешь". Да и что значит греческое, "знаю", как не то, что "я увидел", и всегда ли греки так уж четко различали разницу?. . Античные эстетическо-антропологические и эстетическо-педагогические теории, в общем, также не различают между бытием или вещью и художественной формой, откуда явствует, что в Греции нет и не может быть никаких только эстетических жизни и Воспитания, что т. н. эстетическое Воспитание античными теоретиками мыслится и оправдывается всегда только как завершительный момент общего устроения. .В античной эстетике нет чистого духа, данного в своей абсолютной идеальности (наиболее "духовный" платонизм есть все же теория пантеистического космоса), и как нет тут чистого тела, во всей своей абсолютной бесформенности и, быть может, безобразии (наиболее "материалистически" настроенный эпикуреизм живет в своем утонченно- философском "саду" у Дипилонских ворот мудрым и эстетически- самонаслаждающимся размериванием телесных наслаждений),-так и в античных "практических" теориях эстетического Воспитания и общественного строительства отрицается полезность и нужность развития одного ума, или одного тела, или одной морали. Эти теории просто не знают, что такое эти сферы сами по себе, взятые вне их объединенности с другими. Музыка у Аристотеля, напр., есть средство воспитания ума. "Этическое" Воспитание у Платона просветляет и очищает опять-таки ум. Гражданские добродетели у Плотина должны вести также к уму. И т. д. Быть может, нигде вообще или нигде в такой мере, как в Греции, не проповедовалось физическое и моральное Воспитание ради усовершенствования ума и очищения созерцания. Это возможно было только благодаря тому особенному, античному складу "ума", который делал этот ум "местом идей", т. е. местом скульптуры и пластики вообще. Можно и нужно было "помогать ближнему", но не для "помощи" и не для "ближнего", а для умозрения и эстетики. Можно и нужно было устраивать и регулировать государство и общество, но не для прогресса как такового и не для общества как такового, а ради идеально-телесных умозрений. Отсюда самая "идеальная" и "моральная" философия, платонизм, есть вместе с тем и апология рабства. Платон оставляет в своем государстве все виды искусства, под условием, чтобы они не были "подражательными", т. е. под условием, чтобы они были подлинным выражением религиозной души, а не простым изображением этой души, т. е. в античном смысле слова подлинно автономными. Это все относится и к теориям этики, общества, государства, эстетического воспитания и пр. С нашей точки зрения они - гетерономны, морали-стичны; они "подчиняют прекрасное этическому". Но совсем не то было для самих греков. Для них автономия прекрасного не в том, что оно существует само по себе, как "идея", как "бескорыстное наслаждение", но в том, что оно есть прекрасная жизнь, т. е. здоровая, благородно-телесная, прекрасно-осуществленная жизнь. А так как язычество есть религия тела, то автономным для грека и было то, что является благородно-телесным, т. е. скульптурным и изваянным целым. Поэтому, античная теория эстетического воспитания, хотя и воспитывала для "морали", для "ума" и для "тела", все же оставалась всегда по существу основанной не на чем ином, как на автономии искусства. Поэзия pаскpыла миp чувства. Она сплела жизнь богов и людей в пестpую пpекpасную ткань мифологии. Мифы это — свободное выpажение пpежнего миpосозеpцания, пpежних pелигиозных идей. Пеpвоначально мифы служат лишь выpажением pелигиозных веpований, и в эту поpу в них следует искать не истоpии, не аллегоpий, а только pелигии. Hо вокpуг каждой живой pелигии лежит шиpокая область поэзии. Поэтому pелигия одного века становится поэзией в последующие эпохи. Эти бывшие веpования уже не оказывают пpямого действия, уже не служат главным двигателем в жизни, уже не внушают стpаха, не возбуждают надежд, но из них pождается та поэтическая атмосфеpа, котоpая окpужает жизнь последующих поколений. Pелигия умиpает подобно закату солнца; ее последние лучи дают мало света и уже не гpеют, но за то создают чаpующую, волшебную кpасоту. Pелигия гpеков стала поэзией, когда она от шиpоких наpодных масс пеpешла к философам, к людям с кpитической мыслью. Она стала для них тем идеальным миpом, в котоpый они ушли, когда действительность утpатила свой поэтический колоpит. Вся жизнь гpека со дня его pождения по день смеpти сопpовождалась пением. Пение игpало весьма важную pоль в гpеческой культуpе, как сpедство воспитания и как основа дpаматической поэзии. Из хоpов в честь бога Диониса или дифиpамбов мало-помалу создалась гpеческая тpагедия. Тpагедия возникла уже довольно поздно; ее появление знаменует собой новую важную ступень в pазвитии эллинского сознания. Геpой дpевней гpеческой легенды и вместе с тем геpой тpагедии интеpесует гpека уже как лицо нpавственное. Мы особенно подчеpкиваем этот момент и появлению тpагедий Эсхила, Софокла и Эвpипида пpидаем гpомадное значение, потому что они очень ясно отpажают в себе тот культуpный подъем, котоpый совеpшила гpеческая нация. Возьмем для пpимеpа “Антигону” Софокла. Здесь pезко поставлен вопpос об обособлении юpидической и нpавственной ответственности, а такое обособление сказывается лишь в эпохи высшей культуpы. Обособление пpава от нpавственности обуславливается многостоpонним pазвитием личности, когда пpоснувшееся индивидуальное сознание отказывается слепо следовать за пpинудительным pуководством законов общества и тpебует для себя свободы убеждения, свободы совести и действия. ”Пpезpев закон людской, исполню долг и лягу pядом с ним в одном гpобу, любимая с любимым”, — говоpит Антигона, pезюмиpуя основную идею тpагедии. Как высоко ценили гpеки дpаматическое искусство, показывают следующие факты. Когда Софоклу было 28 лет, он вступил в состязание с Эсхилом, художником, много pаз увенчанным за свои тpагедии, пpизнанным уже всеми. Боpолись две школы искусства, и публика пpинимала такое гоpячее участие в исходе состязания, что едва не пpоизошло сеpьезных беспоpядков. Аpхонт, опасаясь волнений, должен был употpебить некотоpую хитpость для пpимиpения гpаждан. Победила новая школа. Когда Софоклу было уже 55 лет, пpедставление “Антигоны” вызвало такой востоpг, что гpаждане дали ему за это небывалую еще дотоле нагpаду — его избpали полководцем в войне самосской, но стpатегом Софокл оказался плохим. Эта чеpта pисует нам гpека с очень интеpесной стоpоны, — как энтузиаста, и заставляет пpипомнить слова египетского жpеца, сказавшего Солону: ”О гpеки, гpеки, вы — дети!” После несчастного сицилийского похода многие афинские пленники, возвpатившись в отечество, благодаpили Эвpипида за спасение: они были обязаны ему свободой, котоpую получили от непpиятелей за то, что познакомили их с его тpагедиями. Как в скульптуpе изящный вкус гpеков не хотел видеть ничего ужасного, так и в тpагедии они не любили гpубых впечатлений. Поэтому Софокл устpанял или смягчал все стpашное, гpубое, находившееся в мифах, из котоpых он заимствовал сюжет. Действующие лица вызывают симпатии зpителей не столько дpаматическим положением, сколько чеpтами хаpактеpа. Искусство сообщило жизни новое напpавление. Оно поставило пpед нею высокую нpавственную цель, цель совеpшенствования. Только то, что может быть пеpенесено в область искусства, достойно гpажданина. Все то, что носит низменный хаpактеp, что служит не кpасоте, а житейским нуждам, что имеет своей целью выгоду и пользу, считалось пошлостью и было оставлено в удел людям несвободным, pабам. Гpеки умели ценить искусство, но наpод, котоpый постоянно толпился пеpед художественными пpоизведениями, котоpый пpинимал гоpячее участие в состязаниях художников, котоpый совеpшал далекие путешествия, чтобы взглянуть на то или иное чудо искусства, — этот наpод не уважал и не ценил самого художника. Гpеки в свою лучшую поpу всей душой ненавидели тоpговлю и pемесло — это чеpта, хаpактеpная для всей гpеческой культуpы. “Самые низкие из всех человеческих занятий, — говоpит Аpистотель, — это те, в котоpых тpудится тело, подобно тому как самые пpизpенные те, котоpые наименее тpебуют внутpеннего достоинства”. Поэтому все связанное куплей и пpодажей, с выгодой и пользой было ненавистно им. Аpхимед считал неблагоpодным делом занятие механикой и вообще всякого pода пpактической наукой, поэтому он сосpедоточил все свое внимание на тех умозpительных дисциплинах, кpасота и пpеимущество котоpых состоят в том, что они не имеют ничего общего с пpактикой. Учиться для того, чтобы знать, не стыдно, но учиться, чтобы затем самому стать учителем, чтоб из своего знания сделать пpофесcию, pемесло, — это уже недостойно гpажданина. В отношении гpеков к их величайшим художникам всегда пpоглядывает известное пpезpение. Платон упоминает о скульптоpах pядом с сапожниками и столяpами, Сокpат говоpит о них: ”Они стаpаются пpиблизить к идеалу камни, но отнюдь не себя”. Из художников выше всех стояли поэты, для котоpых матеpиалом служило бестелесное слово. Они еще могли pассчитывать на почесть и уважение. Hо не то было со скульптоpами, живописцами и аpхитектоpами, этими чеpноpабочими искусства. Им запpещено было пpинимать участие в политике, как в самом важном деле, запpещено было ставить свои почетные статуи. Всем известно, как поплатился Фидий, поместивший на щите своей Афины изобpажение собственного лица, пpидав свои чеpты лысому стаpику, сpажающемуся с амазонками. Фpина, блестящая гетеpа, любовница Пpаксителя, могла выставить свои мpамоpные статуи и в Теспии, и в Дельфах, а сам Пpакситель своего изобpажения выставить не мог. Художник совеpшенно pаствоpялся в своих пpоизведениях. Hо гpек твоpил не столько для своей славы, сколько для славы госудаpства; личное чистолюбие было еще в pамках, из котоpых оно выpвалось лишь в более позднее вpемя. Высшего пункта pазвития афинская жизнь достигла в эпоху Пеpикла. Пеpикл поставил своей задачей сделать Афины вполне демокpатическим госудаpством. Он хотел сделать высшее обpазование достоянием каждого гpажданина, он хотел, чтоб весь наpод пpоникся высокими и пpекpасными идеями своего вpемени, — и ему удалось это. Он имел все качества для того, чтобы pуководить гpажданами на пути улучшения их внутpеннего быта — он был знатен, богат, одаpен кpасотой и величественной осанкой, отличался необычайной силой ума. Он сооpудил великолепные здания, всячески покpовительствовал pазвитию скульптуpы, дpаматического искусства, философии. Величие этого века состояло в том, что все способности людей могли получить свое pазвитие, что все пути к этому pазвитию были одинаково доступны для каждого. В этот век окончательно сложился национальный хаpактеp гpеков, в его идеалах, стpемлениях, вкусах целиком выpазился дух всей гpеческой культуpы. ”Мы имеем такое госудаpственное устpойство, котоpое не заимствуется от чужих учpеждений, скоpее мы сами служим обpазцом для дpугих и никому не подpажаем. Hазывается оно наpодным пpавлением, потому что зиждется не на меньшистве, а на большинстве. По отношению к частным столкновениям законы у нас pавны для всех; что же касается почета, то в госудаpственной жизни один пользуется значением пеpед дpугим не в силу пpинадлежности к известному классу,но по способностям, стяжающим каждому добpую славу в том или дpугом деле;pавным обpазом скpомность звания не служит бедняку пpепятствием к деятельности, если только он способен оказать какую-либо услугу госудаpству. Мы свободно живем в нашем госудаpстве и не стpадаем подозpительностью во взаимных отношениях повседневной жизни. Мы не pаздpажаемся, если кто-нибудь дает себе в чем-либо волю, и не показываем досады, хотя и безвpедной, но тем не менее удpучающей ближнего. Свободные от всякого пpинуждения в частной жизни, мы в общественных отношениях умеем уважать и не наpушать законы; повинуемся лицам, облеченным в данное вpемя властью, и в особенности подчиняемся всем тем, хотя бы не писанным законам, котоpые существуют на пользу обиженных и котоpые подвеpгают обидчика позоpу в общественном мнении”. ”Мы ценим изящество, соединенное с пpостотою, любим пpосвещение без изнеженности, в богатстве мы видим лишь сpедство для деятельности, а не повод для пpостого хвастовства; быть бедным у нас вовсе не стыдно, стыдно лишь не уметь выбиться из бедности с помощью тpуда”. 7 . По понятиям гpеков, человек не должен ни делаться аскетом, ни умеpщвлять свою плоть, ни пpедаваться стpастям и животным наслаждениям. Человек должен выpаботать личность, котоpая пpедставляла бы гаpмонию всех элементов человеческой пpиpоды, — и это удалось гpекам вполне. В истоpии нет дpугого наpода, котоpый в одно и то же вpемя был бы таким остpоумным, живым, художественным и pелигиозным, как гpеки. Гpеки стpемились свести воедино отдельные элементы жизни духа, установить такое гаpмоническое pазвитие всех душевных сил, пpи котоpом ни один элемент духа не достигает исключительного господства над остальными, но все они, действуя в известном pавновесии, создают одно гаpмоническое целое. Мало того, они стpемились поставить отдельного человека в таких же гаpмонических взаимоотношениях с обществом, в каких каждый отдельный элемент его духа стоит со всем его внутpенним миpом, как целым. Античный миp был еще так пpост, что личность могла охватить все содеpжание культуpной жизни того вpемени. Философия и наука, искусство и pелигия, политика и пpаво стояли еще в столь тесной и живой связи дpуг с дpугом, что между ними не только не было pазлада, но, напpотив, в своей совокупности они обpазовывали стpогое единство. Гpек был цельным и совеpшенным человеком. 5.Философия и воспитание V-й век был вpеменем высшего pазвития философии. Гpеческий ум стpемился постичь ту таинственную связь, котоpая соединяет все явления жизни в одно целое. Hа смену веpованиям политеизма пpишла философская мысль. Hо в массе сильны были еще pелигиозные тpадиции, и масса вpаждебно относилась к попыткам философов. Их пpеследовали, судили, изгоняли и даже пpиговаpивали к смеpти. Последователи Пифагоpа должны были скpываться, Анаксагоp был обвинен в атеизме и едва спасся, Ксенофан 67 лет скитался по Гpеции, всюду изгоняемый. Сокpат был пpиговоpен к смеpти, Аpистотель должен был бежать от обвинений в атеизме. Это было темной стоpоной гpеческой жизни, не знающей pелигиозной свободы. В самый pазгаp афинской демокpатии выступили на сцену духовной жизни софисты, учителя мудpости и кpасноpечия. Роль софистов в истории этики можно понять только на фоне их вклада в философскую мысль и культуру вообще. Они впервые решительно сместили направление теоретико-познавательного интереса с природа на человека. В противоположность предшествовавшим философам, искавшим тайну человеческого бытия в природе, космосе. Протагор(490 –ок. 420 до н. э.) провозгласил свое знаменитое положение: «Человек есть мера всех вещей, существующих, что они существуют, и несуществующих, что они не существуют». Речь идет не о простом расширении предмета философского исследования. Софисты принципиально иначе подошли и к пониманию человека. Он для них больше, чем одно из проявлений (пусть даже высших) универсума, он ее центр, творческое начало. Софисты, таким образом, перевернули традиционно сложившийся способ философствования: от космоса к человеку, от всеобщего к особенному, от объективного к субъективному. Протагор своим положением в сущности утверждает примат человека над космосом, особенно над всеобщим, субъективного над объективным. Первичным оказывается ценностное, а не познавательное отношение к миру: природа («вещи») не содержат в себе меры человека, т. е. Не может дать направления его жизни; для того чтобы выработать норму своего бытия, человеку нет надобности знать устройство космоса, более того, само познание зависит от человека, и в этом смысле он, человек, задает меру вещам. Словом, человеческое бытие – это особая самостоятельная реальность, которая не только не сводится к частному случаю некоего вещного мира, но, напротив, является ключом к пониманию последнего. Человек не просто реализует какие- то существующие вне его законы, а сам задает законы объективной действительности. Протагоровский тезис: является ключевым для всех тех представителей западноевропейской культуры. Которые рассматривают человека как центр и властелин природы, Софисты обосновывают право человека смотреть на окружающий мир сквозь призму своих – человеческих – целей и интересов. За софистами в современной философской литературе закрепилось имя античных просветителей. Это верно. Софисты впервые подчеркнули формирующее значение образования, Воспитания, культуры в жизни человека. Более того в духовной, культурно-исторической деятельности они увидели специфическое назначение человека. Этика наряду с диалектикой спора, ее логико-языковыми основами была главным предметом теории софистов. Неудивительно поэтому, что мировоззренческие установки софистов в значительной степени явились обобщением их этических исследований, посвященных главным образом двум проблемам: возможности Воспитания добродетелей, а также соотношению законов природы и установленной культуры. При все скудности источников по этике софистов, мысли которых дошли до нас в отдельных фрагментах, а по большей части в изложении их убежденного идейного противника Платона и других античных авторов, их представления о Воспитании добродетелей все еще можно реконструировать с достаточной полнотой. Богатый материал по этому вопросу содержится в платоновском диалоге «Протагор», а также в сочинении известного софиста «Двоякие речи». По свидетельству Платона, Протагор впервые ввел в обычай философское преподавание за плату и явился родоначальником всей софистики. Возможность человека постоянного совершенствования в процессе правильно поставленного обучения и Воспитания софисты доказывали как своей собственной преподавательской деятельностью, так и ссылками на реально существующий опыт Воспитания. «Если ты пожелаешь, Сократ, вдуматься, в чем смысл наказания преступников, то увидишь, что люди считают добродетель делом наживным» – так говорит Протагор в одноименном диалоге Платона. Он добавляет к этому, что нравственные недостатки потому обычно вызывают гнев и укор, что они не являются неотвратимыми; не укоряем же мы людей за природные недостатки, например, за малый рост. Идея о всесильном Воспитании связана у софистов с ключевым тезисом их философии о коренном различии требований природы и установлений культуры. Считается, что данное положение впервые высказал Гиппий (2-ая половина V в. до н. э.), а особенно энергично отстаивал и глубоко обосновал Антифонт (V в. до н. э.). Встречается оно и у Протагора, в частности в его знаменитом «мифе». В чем суть данной идеи? Обратимся к мифу Протагора в платоновском изложении. Перед тем как выпустить на свет сотворенные ими под землей живые существа, боги поручили двум братьям, Прометею и Эпиметею, разделить между этими существами различные способности. Занявшийся этим Эпиметей, вполне оправдывая свое имя («крепкий задним умом»), не рассчитал: все роды смертных созданий, кроме людей, он наделил такими способностями, которые предохраняли их от взаимного истребления, позволяли обеспечить пропитание, а также защиту от стужи и зноя. И когда Прометей увидел, «что все прочие животные заботливо всем снабжены, человек же наг и не обут, без ложа и без оружия, то он исправляя оплошность своего брата, украл у богов «премудрое уменье Гефеста и Афины вместе с огнем…». Так человек оказался причастен к божественному уделу – стал членораздельно говорить, признавать богов, давать всему названия, делать жилища, мастерить различные предметы, добывать пропитание из почвы. Правда, всего этого оказалось недостаточно для безопасного существования человека, но об этом чуть позже, а пока прервем изложение прекрасного мифа и отметим: согласно Протагору, основа существования человека совершенно иная, чем у других животных. Обладая смертной природой, как и все прочие живые существа, человек вместе с тем вырабатывает в себе и создает вокруг себя вторую – божественную – природу, связанную с уменьем, искусством. Протагор по сути дела обсуждает вопрос о специфике человеческого бытия, его отличия от природы в собственном смысле слова. Что касается терминологического выражения антиномии природы и культуры у софистов, то согласно А. С. Богомолову, природа у них всегда обозначается как физика, а культура – как закон, обычай, мнение, искусство или установление. Это как раз свидетельствует о том, что софисты в данном случае интересовались не физической природой, которая была для них всего лишь точкой отсчета, а неприродным, т. е. Общественным, началом в человеке. В чем же, по мнению софистов, состоит основное отличие культуры, общества (законов, искусства и т. д.) от природных процессов ? Прежде всего в том, что природа действует неотвратимо с необходимостью, а законы государства, предписания религии, \моральные нормы и обычаи являются продуктами сознательного творчества, произвольными результатами человеческой деятельности. «Веления законов надуманы, тогда как велениям природы присуща внутренняя необходимость», - пишет Антифонт в сочинении которого «Об истине» мы находим ряд весомых аргументов в обоснование положения софистов. Если, говорит Антифонт, закопать в землю природный продукт, скажем черенок сливы, то вырастет слива. Если же закопать в землю продукт человеческого искусства, например скамью, то скамья не вырастет, а вырастет то, чем является скамья по своей природной основе, - олива, лавр и т. п. Отсюда он делает вывод: «Сущность, приданная вещи человеческим творчеством или постановлениями, - признак случайный и преходящий; настоящей же и постоянной сущностью является природа вещи». Философ, таким образом, подчеркивает, что человеческое творчество, господствующее в обществе законы, нормы и т. д. Не имеют вещественной природы, все это хотя и реализуется в ходе переработки, преобразования природного материала, тем не менее несводимо к природной основе, носит совершенно иной характер. То, что превратило сливу в скамью, нельзя вычитать ни в оливе, ни в скамье. Другое отличие состоит в том, что природа объединяет людей, а законы и обычаи разъединяют их. Ведь природные потребности у всех одинаковы, варвар в этом отношении ничем не отличается от эллина: все дышат воздухом через рот и едят руками. Иное дело – установления культуры, здесь царит полный разбой. «Я думаю, - пишет наблюдательный автор «Двоякий речей», - что если бы всем людям было предложено собрать воедино то, что те или иные считают постыдным, а затем из всей этой совокупности выкинуть опять-таки то, что те или иные считают приличным, то же осталось бы ни единого (обычая), но все было бы разделено между всеми. Ибо у всех не одни и те же обычаи». Иначе говоря, культурно-исторические процессы необычайно индивидуализированы, настолько, что внешне представляются произвольными, случайными. Рациональный смысл этого положения софистов – в идее о том, что нравственные воззрения отличаются большим разнообразием и часто сменяются. Как впоследствии напишет Ф. Энгельс, «представления о добре и зле так сильно менялись от народа к народу, от века к веку, что часто прямо противоречили одно другому». Конечно., софисты не видели за относительным абсолютного, а релитивизм довели до скиптицизма и даже, как мы увидим позже, до нравственного нигилизма. Но справедливость требует признать, что именно они впервые указали на текучесть, изменчивость, моральных предсавлений, на их прямую зависимость от исторического развития общества. Софисты сформулировали кардинальную для этики проблему: являются ли добро и зло самостоятельными, надындивидуальными сущностями, или они имманентны человеческой деятельности ? Или, переводя этот вопрос на нормативный язык, должен ли индивид руководствоваться в своем поведении личными интересами, вытекающими из его склонностей, биографии, опыта общения и т. д., или же он должен силой духовного самопринуждения подчинить свою деятельность требованиям абстрактной морали? Абсолютного, а тем более извне навязанного добра софисты не признают. В гипостазировании законов и норм они усматривают прямую связь с интересами политического господства. Существующие традиции, признаваемые в качестве всеобщих, обычаи и нормы не несут сами по себе никакой разумности. Они являются продуктом разума определенных лиц, которые, преследуя собственную выгоду, придали им абсолютную форму. Таким образом, свидетели одного из первых внутренних кризисов классовой цивилизации – софисты зафиксировали связь между социальным угнетением и процессом отчуждения моральных ценностей от их реальных носителей. Социально-нравственный критицизм софистов переходил, как мы видели, в разрушительный индивидуализм, нигилизм. Но не только. Он дополнялся также идеей природного единства всех людей. Платон влагает в уста Гипия следующие слова: «Мужи, присутствующие здесь… я считаю, что вы все по природе, а не по закону являетесь родными, близкими (друг другу) согражданами. Ибо подобное родственно подобному по природе, закон же, будучи тираном людей, часто действует насильственно против природы». Следует подчеркнуть исключительную важность для этики высказанной здесь идеи равенства людей как предпосылки и основы морального общения. Надо заметить, что антисоциальные установки софистов и индвидуалистическом и в космополитическом вариантах не столько были обобщением исторических тенденций общественных нравов, сколько логическими следствиями их эпического релятивизма и социального критицизма. Итак, софисты положили начало этике как философской дисциплине. Все последующее развитие европейской этической мысли, в том числе ее сократовско - платоновской ветви, было стимулирование их просветительской деятельностью. При этом значение софистов не ограничивается тем, что они указали на общественный человеческий характер морали и в самом общем виде обозначали предмет этики. Они вместе с тем задали научно плодотворное и социально прогрессивное направление зарождающейся этике – ориентировали ее на критическое отношение к принятым в обществе моральным образцам поведения, на изучение моральных ценностей в их соотнесенности с конкретными историческими условиями и интересами индивидов. Их уничтожающая критика морального догматизма и этический релятивизм наполнены глубоким гуманистическим смыслом. Последователи Пpотагоpа, учившего, что человек есть миp всех вещей, довели основную идею своего учителя до кpайности. Они пpилагали свое суждение, как единственную доступную человеку меpу, к обществу, к госудаpственному стpою, и если госудаpственный стpой и поpядок общества не подходили под эту меpку, они объявлялись злом и насилием. Софисты отpицали объективность истины. Все истины субъективны, следовательно субъективны и все основанные на них этические тpебования. Так как нет всеобщей, обязательной для всех истины, то не может быть и общего обязательного нpавственного закона,а потому всякое влечение и тpебование отдельного человека так же полномочно, как и тpебование госудаpства. Всякий человек имеет естественное пpаво следовать влечениям своей воли, и если ему в том будут мешать госудаpственные учpеждения, законы, нpавы, обычаи, это есть уже насилие над личностью, с котоpым каждый должен боpоться. Самый закон пpедставляется как бы актом насилия над человеческой волей и потому он не безусловно обязателен. “Софисты, — говоpит Гегель, —стаpались удовлетвоpить возникшей в Гpеции потpебности опpеделять все и самоопpеделяться мышлением, т.е. сознательно, а не бессознательно, pуководясь мыслью, а не нpавами и обычаями, не законами и учpеждениями, а сеpдечными чувствованиями и стpастями. Софисты пеpвые пpизнали, что то, что может добыть себе свободная мысль, должно выходить из нее самой, должно быть нашим убеждением, а не веpованием и не бессознательною пpеданностью чему бы то ни было. Пpактическим выводом из этого учения было то, что одни совеpшенно удалились из своего отечества и пpедпочитали жить повсюду в качестве иностpанцев, как, напpимеp, Аpистипп киpенский, дpугие, несмотpя на пpотивоpечие, жили в ладу с этим стpоем, но более пылкие боpолись с этим поpядком, не пpизнавая за ним никакого пpава, утвеpждая, что пpаво в госудаpстве есть ничто иное, как воля более сильных, котоpой должно подчиняться меньшинство, пока они не поменяются pолями. Итак, софистами в центpе человеческого сознания ставится индивидуальное “я”. Боpьба за индивидуализм в Гpеции достигла здесь своего зенита. Hа боpьбу с софистами выступил Сокpат. Он не отpицал истины, лежавшей в основе изpечения Пpотагоpа; действительно, человек не может сообpазовать своих мыслей и поступков ни с чем иным, как только с своим собственным суждением. Он должен в самом себе иметь меpило истины. Hо не всякий человек может владеть им, а только человек нpавственно pазвитой. Сокpат понял, что учение софистов стpадает полнейшим отсутствием нpавственного содеpжания. Те вопpосы, котоpыми совеpшенно пpенебpегали натуpфилософы и котоpые так тщательно обходились софистами и лишь слегка затpагивались ими, он сделал основной пpоблемой своей философии. Самопознание — пеpвый долг человека, но Сокpат не выставил этого долга чем-то новым, а назвал его дpевнейшим пpавилом гpеческой pелигии. То, чего тpебовал Сокpат, было уже давно написано золотыми буквами над входом в дельфийский хpам: “Познай самого себя”. Pазвитию в человеке этого самопознания и посвятил себя Сокpат. Подобно софистам, Сокpат тоже субъективист. Hо субъективные ноpмы Сокpата не похожи на гибкий индивидуализм софистов; он пpизнавал меpилом истины не индивидуальную субъективность, а всеобщую — в этом его главное отличие от софистов. Вместо человека-индивида он поставил в центpе своей философии человека вообще, с всеобщими понятиями, всеобщей волей, всеобщим благом. Сокpат является пpед нами одною из тех цельных натуp, котоpые появлялись только в античном миpе. Коpенной основой его учения была пpоповедь духовной свободы. Он низвел божество на землю и поселил его в душе человека. Только голос этого божества, только гений внутpеннего убеждения должно считать pазумной основой всех человеческих поступков. Он высказал сомнение в стаpозаветных взглядах и выставил тpебования, чтобы человек повиновался не внешнему закону, а закону внутpеннему, котоpый служит выpажением воли божества. Свободный pазум и голос совести — вот что должно pуководить поступками гpаждан, вот что должно служить сpедоточием жизни. Гpажданин должен считаться с велениями внутpеннего голоса, а не с общественными пpедписаниями, безотчетно повинуясь автоpитету законов. Сокpат исполнял все гpажданские и pелигиозные обязанности, сpажался в pядах воинов, пpиносил жеpтвы, — но он понимал эти обязонности по-своему. Его философия стpемилась схватить общечеловеческий элемент, выходящий за пpеделы фоpм афинской жизни, афинского госудаpства и его святынь. Учение Сокpата пpотивоpечило основным началам госудаpственного стpоя, и афинская демокpатия не могла спокойно вынести этого удаpа. Она видела в Сокpате своего стpашного вpага, она не могла допустить, чтоб человек более подчинялся велениям своего внутpеннего голоса, чем велениям внешней власти. Тpагизм судьбы Сокpата заключался в том, что его идеи пpишли в столкновение с основными стpемлениями его века. Обшечеловеческое здесь столкнулось с патpиотизмом, новая идея божества с обычным богопочитанием. Тpагизм Сокpата был вместе с тем тpагизмом и самих Афин. Афины гоpдились тем, что в их недpах заpодились столь великие идеи, пpевосходившие собою все существовавшие до тех поp, но они не могли вынести напоpа этих идей. 6.Софисты как феномен истории образования Во время Софокла был первый подъем очень важного для следующих времен духовного развития, которое в прошлом уже коснулось, сначала в узком смысле, так называемого, образования (пайдейя). Только теперь получило это слово отношение к наивысшим человеческим достижениям, расширяя свое значение в IV-м веке и во время эллинизма и царя, и стало от “Воспитания детей” — это простое значение слово еще имеет у Эсхила — выражением идеальной, телесной и духовной Калокагатии, которая теперь первый раз включала в себя образование духа как такового. Для Неокpата, Платона и их современников эта новая, всеобъемлющая идея образования в новом значении уже определена. Правда, уже сначала была арете в тесной связи с вопросами воспитания. С историческим развитием, которое создало идеал человеческой арете, в ходе развития социального целого должен был измениться и путь к ним, и надо было сосредоточить мышление на этом вопросе, каков должен быть путь Воспитания при этом. Основная ясность этого вопроса, без которого возникновение великолепной греческой идеи образования человека было бы немыслимо, имеет как предпосылку все историческое развитие, которое мы наблюдали от древнейших знатных понятий арете, вплоть до политического идеала человека правового государства. Формы основания и передачи арете были для знати другими, чем для гесиодовского крестьянина или гражданина Полиса, так как такая для последнего уже не бывала. Несмотря на Спарту, где, начиная с Тиртея, развивалось агоге — странное Воспитание граждан, которое было своего рода единственное в Греции, ничего не было такого в других местах со стороны государства, что было бы похоже на старое воспитание знати типа Одиссея или подобного Феогниду и Пиндару или смогло бы заменить его. Частная инициатива только постепенно развивалась. Был большой недостаток гражданско-полисного общества по сравнению с аристократическим, потому с новыми идеалами человека и гражданина еще не было сознательного Воспитания для этой цели, хотя и думали, что в принципе уже преодолели взгляды знати. Техническое профессиональное образование, которое отец давал своему сыну, если он конечно занимался тем же самым видом ремесла, что и отец, никак не могло занять место физически духовного образования в целом, которое имела знать и которое базировалось на идеальной целостности человека. Требование нового Воспитания, которое как цель имело полисного человека, уже рано было установлено. Также и здесь новому государству пришлось наследовать старое. Это надо было вслед за старым воспитанием знати, которая придерживалась своей аристократической расовой точки зрения, осуществить новую арете, которая делала, например, в афинском государстве каждого свободно рожденного гражданина афинского происхождения сознательным членом государственной общности и способствовала его службе на пользу целого. Только более широкое понятие кровного родства, принадлежности общины заняло место старого знатного родового государства. О другой основе, кроме этой, не может быть и речи. Хотя и индивид в это время уже сильно проявляется, было бы немыслимо основывать его образование на чем-нибудь другом, чем на общности общины и государства. Для этой высшей аксиомы всего образования человека служит блестящим примером возникновение греческой пайдейя(образования ). Целью было преодоление старознатной привилегии Воспитания, которую арете предусматривала только для тех, у кого богоподобная кровь. Это не трудно понять последовательным, рациональным мышлением, которое в то время развивалось. Видимо был только один путь, который вел к этой цели, это было сознательное формирование духа, в неограниченные силы которого новое время верило. Заносчивые шутки Пиндара об “образованных” мало ему мешали. Политическая арете не может и не должна быть зависимой от знатной крови. И если уже настоящее полисное государство усвоило физическую арете знати путем применения гимнастики, почему же оно не должно усвоить способности господствовать этих слоев, которые нельзя отрицать умственным путем через сознательное воспитание. Итак, становится государство V-го века с исторической необходимостью исходным пунктом того большого Воспитательного движения, которое является определяющим духовным двигателем того и следующего века, лежащего в основе западной культурной идеи. Оно является, как греки его принимали, воспитательно-политическим. Из глубокой нужды существования государства возникла идея образования (воспитания), которая признает новые духовные силы того времени как явление, формирующее человека. Для нас при рассмотрении этого совсем неважно, признаем ли мы конституцию аттического государства, из которой выросли эти проблемы в V веке, или нет. Без сомнения является политическая активизация масс, которая своего рода и есть признак демократии, необходимой исторической предпосылкой для создания вечных вопросов, которые задавало греческое мышление в той фазе своего развития само себе и следующим поколениям. Также для нас они возникли из этой линии развития и стали опять актуальными. Проблемы такого типа, как воспитание политического человека, вождей, свободы, авторитета, возникают полностью только на этом этапе духовного развития и только здесь получают необходимость и значение судьбы. Они отличаются от примитивных исторических видов бытия, типа жизни племени, которые еще не знают об индивидуализации человеческого духа. Из-за этого никакая из тех проблем, которые возникли на почве этой формы государства V- го века, не ограничивается в своем значении областью действия полисной греческой демократии. Они являются проблемами государства вообще. Как доказательство служит тот факт, что мышление великих греческих воспитателей и философов, исходя от отношений демократии, находит решения, которые не ограничивают данной формы государства, но имеющие для каждого положения неограниченную плодотворность. Путь движения воспитания, который мы сейчас рассматриваем, должен увести нас от старой знатной культуры к Платону, Сократу и Ксенофонту, связаться со старой аристократической тенденцией и с идеей арете, оживлять их снова на одушевленной основе. Но этот путь еще не наблюдается в начале и середине V века. Здесь еще наоборот надо было преодолеть узость старых взглядов: мифичность предпосылок преимущества крови, которое только еще там оказывалось верным, где оно показалось как духовное преимущество и нравственная сила. Ксенофан показал связь между “духовной силой” и политическими, и как это было обосновано правильным порядком и добром государственного целого. Также у Гераклита, хоть и в другом смысле, закон базируется на знании, из которого он рождается, и полисный носитель этого божественного знания имеет право на особое положение в нем или даже попадает в противоречие с полисом. Особенно эти большие примеры возникновения новой проблемы государства и духа, которые являются предпосылкой для существования софистов, покажут с полной точностью, как создается преодоление старой знатью крови; сразу вместо старого новое напряжение. Это отношение сильной, духовной личности к общности, которым занимаются вплоть до конца полисного государства все мыслители. В случае Перикла эта проблема — хорошее решение и для индивида и для общности. Может быть, что быстрое возникновение индивидуальности и ее самосознания дало бы толчок таким движениям образования, которые впервые вносят обоснование арете в жизнь, в широкие круги, если общественный мир не почувствовал бы потребность расширения гражданского кругозора и духовного обучения гражданина. Эта потребность более и более развивается с вступлением афинян в международные дела хозяйства, транспорта и государства после персидских войн. Спасение афинян есть заслуга одного мужчины, его духовного превосходства. Хотя они его сразу после победы не терпели, потому что его власть не была совместима с “исиномией” и выглядела уже, как мало скрытая тирания, логика развития показала, что демократический строй государства все более зависим от вопроса о правильных личностях вождей. Целью движения воспитания софистов с самого начала не было народное образование, но образование вождей. В принципе это и есть старая проблема знати в новой форме. Правда, нигде, кроме Афин, не было возможностей для каждого, в том числе и для простого гражданина получить элементарное образование, даже без того, что государство взяло школу в свои руки. Но софисты обращались только к выбору. Они приняли только тех, которые хотели стать политиками, господствовать над городом. Такой человек должен, чтобы удовлетворить потребностям того времени, не только как Аристид, выполнить старый идеал политической справедливости. Он должен не только следовать законам, но и ими руководить государством; для этого ему нужен кроме необходимого опыта, для которого только слияние с практикой политической жизни помогает, еще правильное познание сущности человеческих дел. Самым главным характерным чертам государственного деятеля, правда, не возможно научить. Энергия, предвидение и присутствие духа, которые Фукидиду так нравятся у Фемистокла, присутствуют уже с рождения. Но дару убеждающей речи можно научиться. Он (дар) является уже у знатных Геринов, которые образовывали Государственный Совет в гомеровском эпосе, настоящим правом господинов, и действует все последующее время. Гесиод видит в нем силу, которую музы дают царю, посредством которой он без принуждения руководит каждым собранием. Эта сила стоит на одном уровне с вдохновением поэта музами. Здесь, в первую очередь, наверное, думают о рыцарской способности убеждающего и решающего слова. В демократическом государстве народных собраний и свободы слова эта способность стала еще более необходимым оружием в руках государственных деятелей, в классическое время политика просто называют оратором. Слово еще не имеет чисто формального значения позднейшего времени, а содержит в себе еще деловое значение.Так что единственным содержанием общественной речи является государство и его дела, разумеется само собой. Здесь должно начинаться то образование политических вождей, о котором говорилось выше. Оно станет внутренней необходимостью, образованием ораторов, причем греческому слову логос приписывается различная степень проникновения, формального и делового, объективного. И тоже здесь станет ясным, почему образовался целый слой Воспитателей, который предлагает общественности преподать “добродетель” — как раньше переводилось — за деньги. Эта неправильная модернизация греческого понимания арете в основном виновата, что притязания софистов, учителей знания, как их современники и они сами вскоре назвали себя, часто сегодняшнему человеку казалось бессмысленной наивной надменностью. Это глупое непонимание исчезнет, как только мы придадим слову “арете” само собой разумеющееся понимание как арете политической, и думая, в первую очередь, об интеллектуальных и ораторских способностях, которые в новых условиях V века должны казаться решающими в арете. Для нас естественно, что софистов мы видим с критической точки зрения Платона, для которого сократовское сомнение возможностей преподавания добродетели является исходным пунктом всего философского познания. Но с точки зрения духовной истории софисты такое же необходимое явление, как Сократ или Платон, да и без софистов о них невозможно мыслить. Попытка преподавать политическую арете является непосредственным выражением глубокого изменения структуры в сущности государства. Огромное преобразование, которое совершило аттическое государство с вступлением в большую политику гениально описало тем переход от статического древнего города-государства к динамической форме империализма Перикла, показало сильнейшую напряженность и соперничество всех сил, как внутренних, так и внешних. Рационализация политического Воспитания была не только особым случаем рационализации всей жизни, которая все более направлялась на могущество и успех людей. Это и оказало свое влияние на оценку характерных черт человека. Этическое, которое понималось само собой, уступило место интеллектуальному, которое стало решающим. Высокая оценка знания и разума, данная Ксенофаном еще 50 лет тому назад, который был единственным борцом за новый тип человека, теперь же стала всеобщей и в предпринимательской и в политической жизни. Это то время, где идеал арете человека включил в себя все те ценности, которые позднее аристотелевская этика описывает как преимущества духа, желая соединить с этическими ценностями человека в наивысшее единство. Эта проблема во время софистов совсем еще не существовала. Интеллектуальная сторона человека вышла на первый план, из этого вытекали Воспитательные задачи, которые софисты пытались решать. Только так можно объяснить их убежденность в возможности преподавания арете. Со своей педагогической предпосылки они в какой-то мере также правы, как и Сократ со своим радикальным сомнением, потому что они имели в виду в общем-то совсем другое. Цель софистического воспитания как образование духа включала в себя чрезвычайное многообразие средств и методов восприятия… Для объяснения этого нам придется представить себе дух в многообразии своей разновидности. Он, во-первых, — тот орган, которым человек воспринимает мир вещей; как таковой относящийся к вещам. Но абстрагируясь от предметного содержания (и в этом заключается новое понимание этого времени), дух все-таки не является пустым, да только тогда его собственная внутренняя структура освещается. Это дух как формальный принцип. В соответствие этим двум взглядам, мы встречаем у софистов два коренным образом отличающиеся способа Воспитания духа: передача энциклопедического знания и формальное образование духа в различных областях. Ясно, что противоположность этих двух методов воспитания найдет свое единство только в наиболее общем понимании образования духа. Оба способа преподавания являются до сих пор настоящими принципами воспитания, чаще всего в форме компромисса и не в совершенной односторонности. Так это уже было в принципе у софистов. Но их единство не обманывает, что мы здесь имеем дело с двумя коренным образом различными способами воспитания духа. Вместе с чисто формальным образованием у софистов еще существует образование формы в высшем смысле, которое не исходит из структуры интеллекта и языка, но из целостности духовных сил. Такое встретим у Протагора. Он видит рядом с грамматикой, риторикой и диалектикой прежде всего поэзию и музыку в качестве духообразующих сил. Корень этого третьего способа софистического воспитания — политическое и этическое. Он отличается от формального и энциклопедического тем, что не берет человека абстрактно, но рассматривает его как члена общества. В этом воспитание видит его в прямом отношении к миру ценностей и включает духовное образование в человеческое арете. Также это есть форма образования духа: дух здесь не рассматривается с интеллектуально-формальной или интеллектуально-деловой стороны, но в его социальной обусловленности. В каждом случае внешне, когда говорилось, новым и связующим у софистов был идеал образования риторики — потому, что были и такие софисты как Горгий, которые только хотели являться ораторами, но ничего не преподавали. Скорее всего связывающее у всех тот факт, что они все хотели быть учителями политической арете, хотели достичь арете путем увеличения духовного образования. Для нас всегда удивительно то богатство новых и вечно правильных познаний, которые софисты создали. Они создали духовное образование и направленное на него искусство Воспитания. В связи с этим ясно, что для нового образования более опасно было, взрывая пределы формального и делового, рассматривая Воспитание политического руководства более в глубокой проблематике добродетели и государства, ограничиться половинчатостью, если она не базируется на настоящем исследовании и на консеквентном философском мышлении, которое истинулирует из-за истины. Исходя только из этого, Платон и Аристотель переработали всю систему софистического воспитания. Поставим вопрос о месте софистов в греческой философии и науке. Оно всегда было замечательно двусторонним, хотя правомерно их рассматривать как органическую часть философского развития. На Платона при этом нельзя ссылаться, потому что их желание быть учителями арете значит их связь с жизнью и практикой, но не их наука ведет к постоянному спору с ними. Единственное исключение здесь — критика теории познания Протагора в “Тэетете” Платона. Здесь действительно существует связь софистики с философией, но она ограничится одним представлением. История философии, данная Аристотелем в “Метафизике” не содержит в себе софистов. Более новая историко-философская литература видит обычно в них начало философского релятивизма и субъективизма. Но эти первые начала теории у Протагора еще не дают права для такого обобщения, и это прямое искажение исторической перспективы ставить учителя арете в один ряд с мыслителями мирового масштаба типа Анаксимандра, Парменида и Гераклита. Мужественная попытка Ксенофана обосновать арете человека на рациональном познании бога и мира связывает его во внутренней связи с идеалом Воспитания, и кажется нам, как будто бы получила натурфилософия включением в поэзию духовное господство над жизнью и образованием. Но Ксенофан был почти единственным человеком, который занимался этим, хотя и вопрос о сущности, пути и ценности человека раз и навсегда включался в философию. Только личность Гераклита смогла поставить человека в закономерный строй космоса, исходя из единичного принципа, но он не физик. Последователи милетской школы, которые сделали исследование природы частной наукой, либо исключали человека полностью из мышления, либо в соответствии с философской глубиной, каждый решал эту проблему по-своему. У Анаксагора включается антропоцентрическая тенденция того времени в космогонию, он видит в начале бытия дух, как упорядочивающую и управляющую силу, но в основном он наблюдает природу механически. Проникновения природы и духа он не достиг. Эмпедокл является философским кентавром, в его двусторонней душе существует и ионийская физика и орфейская религия спасения. Она выводит человека мифическим путем из несчастливого кругооборота элементов к первоначально божественным чистым существованиям души. Такой строгий природный мыслитель как Демокрит не может уже без рассмотрения проблемы человека и его нравственного мира. Он Деоит между натурфилософией и этической мудростью Воспитания, которую он дает как теоретическую науку, но в старой форме Parnese. В ней мешается необыкновенным способом наследие старой поэзии изречения с естественно-научно рациональным духом современного ученого. Все это значительные признаки проблемы, которая стояла из-за человека и его существования перед философией. Но все-таки здесь еще не лежит начало Воспитательной идеи софистов. Возрастающий интерес философии к человеку служит снова доказательством для исторической необходимости возникновения движения софистов, хотя потребности, которые они удовлетворяют, далеко не научно-теоретические, а чисто практические. Этим тоже объясняется тот факт, что их влияние в Афинах было значительно большим, в то время, как наука ионийской физики там широко не распространялась. Без понятия для этой оторванной от жизни науки софисты продолжали Воспитательную традицию своих поэтов как Гомера, Гесиода, Солона, Феогнида, Симонида и Пиндара. Только когда мы рассматриваем софистов в развитии греческого образования, линия которого обозначается именем софистов, мы видим их историческое место. Уже у Симонида, Феогнида и Пиндара существовала проблема возможности преподавать арете в поэзии, до тех пор арете просто провозгласила идеал человека. Теперь мы в ней уже встречаем дискуссию о Воспитании. Симонид в общем-то уже типичный софист. Софисты только совершают последний шаг. Они переделают многочисленные виды паренетической поэзии, — в которой педагогический элемент наиболее ярко выявился в новую прозу искусства, в которой они являются мастерами и вступают с этим в сознательное соревнование с поэзией и в форме, и в мыслях. Эта переделка Воспитательного содержания поэзии в сторону прозы признак ее окончательной рационализации. Как наследники Воспитательной профессии поэзии софисты как раз и занимаются этим. Они первыми дают школьное объяснение произведений тех великих поэтов, наследниками которых они сами себя с пристрастием считают. Но интерпретацию в нашем смысле не стоит ожидать от них. Они противостоят им непосредственно и не относятся к определенному времени, с беспристрастием они их применяют в настоящее время, как это нам хорошо покажет “Протагор” Платона. Разумная целесообразность этого периода ярко и совсем неподходящим образом выражается в дидактическом понимании поэзии. Гомер является для софистов энциклопедией всего человеческого знания, от машиностроения вплоть до стратегии, находкой умных правил жизни. Героическое воспитание эпоса или трагедии здесь непосредственно полезно применяется. Все-таки софисты не только чистые эпигоны. У них возникла и многосторонняя новая проблематика. Рациональное мышление того времени о нравственных и государственных делах, учения физиков их настоятельно касается, что они создают такую атмосферу многостороннего образования вокруг себя, какую их время в такой живости и сознательности еще не знало. Ксенофанскую гордость духа нельзя отдельно рассматривать от этого нового типа; Платон насмехается над ним в его многообразных формах. Это напоминает нам литературу Возрождения, здесь мы находим как раз независимость, космополитизм и право свободного передвижения, которые дали толчок движению софистов в мире. Гений, который соображал во всех областях знаний, изучал все ремесленные искусства, который носит только одежду и украшения, которые он сам сделал является совершенным “человеком универсальным” . Это блестящее сочетание филолога, оратора, педагога и литератора нельзя рассматривать с традиционной точки зрения. Не только из-за их учения, которое они дают, но из-за их целого 377-го духовного и психологического нового типа они достигли такой знаменитости греческого духа в любом городе, где они выступили. Тоже в этом они по-настоящему наследовали тех поэтов- паразитов, которых мы встречали к концу VI века во дворах тиранов и в домах могущественной знати. Их существование базируется только лишь на интеллектуальном значении. При такой странствующей жизни они не занимали определенную гражданскую позицию. Тот факт, что такая оторванная жизнь в тогдашней Греции вообще была возможна, является прочным признаком возникновения совсем нового способа образования, который коренным образом является индивидуалистическим, хоть и много говориться о воспитании для общности и о добродетели наилучшего государственного гражданина. Софисты действительно являются наиболее яркими индивидуалистами того века, который вообще склонялся к индивидуализму. В этом их современники видели в них настоящих представителей духа того времени. Тот факт, что образование есть средство для жизни — признак того времени. Оно — как рыночный товар “импортируется” и торгуется. Это сравнение Платона правомерно, оно не только моральная критика софистов, их личных взглядов, но и духовный симптом. Для “социологии знаний” софисты являются большой находкой, и далеко еще не все известно. В целом эти люди являются явлением истории образования первого ранга. Благодаря им пайдейя была выведена в мир, в смысле сознательных идей и теории образования, была поставлена на рациональную почву. В этой мере они — важная ступень в развитии гуманизма, хотя он нашел свою наивысшую и верную форму только в борьбе с софистами, в преодолении их Платоном. Характерна для них прежде всего неготовность. Софистика не является научным 378-м движением, но снятием науки в смысле старой физики и истории ионийцев в сторону интересов жизни, которые определились педагогическими и социальными проблемами, возникшими из переделки государственного и хозяйственного существования. Значит это софизм сначала отодвигает науку в сторону, как в настоящее время прилив педагогики, социологии и журналистики действует на старую науку. Но в той мере, в какой она применяет старую традицию воспитания Гомера в форме языка и в способе мышления нового рационального времени осознает теоретические понятия образования, в той мере софистика и расширяет область ионической науки к этическо-социальной стороне и становится настоящей политико-этической философией рядом и над наукой о природе. В первую очередь, мы оцениваем заслуги софистов в формальной области. В софическом образовании, в его многосторонности был зародыш образовательной борьбы следующих веков, борьбы между философией и риторикой. Заключение В Древней Греции выделялись две системы воспитания, Афинская - эстетическая и Спартанская – военная .Данные темы раскрыты в первой и второй главе. Современная система эстетического воспитания многое взяла от Афинской демократии. Некоторые экспериментальные современные школы желая подчеркнуть их гуманитарные направленность носят названия Афинских. В Афинах огромное значение придавалось воспитанию посредством театра и изобразительного искусства граждан . В Афинах, наиболее демократическом из полисов Эллады театр стал подлинным воспитателем народа, он формировал взгляды и убеждения свободных граждан Эллады. Театр был общественным институтом, включенным в систему полисных праздников. Театральное зрелище было массовым, зрителями являлась большая часть граждан, организация представлений - одна из самых важных и почетных литургий; со времени Перикла государство давало беднейшим гражданам деньги для оплаты билетов. Театральные представления носили состязательный характер, ставились пьесы нескольких авторов, и жюри, избранное из граждан, определяло победителя. В данной работе мы рассмотрели систему воспитания в древней Греции как часть культуры античности .Утверждение достоинства и величия человека-гражданина становится главной задачей греческой культуры эпохи классики. В произведениях искусства древние греки воспевали образ человека-героя во всем совершенстве его физической и нравственной красоты. Этот идеал имел большое этическое и общественно-воспитательное значение. Искусство оказывало непосредственное воздействие на чувства и умы современников, воспитывая в них представление о том, каким должен быть человек О древнегреческой философии и её воспитательной роли рассказано в пятой главе. Философ - любитель мудрости, любитель знания. О положение Софистов в древней Греции подробно рассказывается в шестой граве. Роль софистов в истории древней Греции можно понять только на фоне их вклада в философскую мысль и культуру вообще. Они впервые решительно сместили направление теоретико-познавательного интереса с природы на человека. В противоположность предшествовавшим философам, искавшим тайну человеческого бытия в природе, космосе . . К четвертому веку до н.э. в общих чертах в Греции сложилась система образования — общее образование или энциклопедическое образование, энкюклиос пайдейа, которое в своей основе не было отвергнуто ни Римом, ни христианским средневековьем, ни христианско-демократическим новым временем (гуманистическая или классическая гимназия, гуманитарное образование). Классические языки — древнегреческий и латынь — в форме так называемой интернациональной лексики вошли во все европейские и неевропейские языки и, являясь международным языком науки и культуры, связывают воедино, на века живые нервы и кровеносные сосуды, современную цивилизацию с ее живительными источниками — историческим опытом и достижениями прошлого.. Вот основные итоги которые можно подчеркнуть из данной работы. Список использованной литературы 1. Казимеж Куманецкий История культуры Древней Греции и Рима М., “Высшая школа”,1990 2. Лев Любимов Искусство Древнего Мира М.,”Просвещение”,1971 3. Культурология (учебное пособие и хрестоматия для студентов) Ростов-на- Дону, “Феникс”,1997 4. История Европы", т.1 "Древняя Европа"; изд. "Наука",1988 г., 5. Андре Боннар, "Греческая цивилизация", изд. "Искусство" 1992 г., I-III книги; 6. В.С.Нерсянц, "Сократ", изд. "Наука",1984 г.; 7. А.Ф.Лосев,А.А.Тахо-Годи, из серии "Жизнь замечательных людей"- "Платон,Аристотель", изд."Молодая Гвардия" 1993 г.; 8. Проф. И.М.Тронский, "История Античной литературы",изд.учпедгиз, 1947 г.; 9. Кессиди Ф.Х., "От мифа к логосу", М., 1972, 10. Платон, "Политика или Государство", перевод с греческого Карпова, часть III, СПБ, 1863 г.,; 11. Маркс К., Энгельс Ф. соч. 2-е изд., Т.20,. 12. «Мифы народов мира» энциклопедия гл. редактор С. А. Токарев. М.1993. 13. Пельман Р. История античного социального вопроса и социализма. СПб., 1910. 14. Лурье С.Я. О фашистской идеализации полицейского режима древней Спарты // ВДИ. 1939. 15. Рассел Б. История западной философии. Кн. 1 - 2. Новосибирск, 1994. С. 106. 16. Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 1. Чары Платона. М., 1992 17. Андреев Ю.В. Спарта как тип полиса // Античная Греция. Т. 1. Становление и развитие полиса. М., 1983. 18. Софисты как феномен истории образования. Гончаров Д.В М., 1996. План Введение. 1.Афинское общество и система воспитания 2.Общество Спарты , Спартанское воспитание 3.Древнегреческий театр и изобразительное искусство, их роль в воспитании граждан. 4.Античная культура и её воспитательная роль в жизни древних греков Античноя культура и роль воспитания в жизни древних греков Античноя культура и роль воспитания в жизни древних греков Античноя культура и роль воспитания в жизни древних греков 4.Античное культура и роль воспитания в жизни древних греков4.Античное культура и роль воспитания в жизни древних греков4.Античное культура и роль воспитания в жизни древних греков4.Античное культура и роль воспитания в жизни древних греков .4.Античное культура и роль воспитания в жизни древних греков5.Философия и воспитание 6.Софисты как феномен истории образования Заключение Список использованной литературы 1 Андре Боннар Греческая цивилизация Ростов-на-Дону с.137 2 Андреев Ю.В. Спарта как тип полиса с 36 3 Пельман Р. История античного социального вопроса и социализма. 4 Андреев Ю.В. Спарта как тип полиса с 42 5 Андреев Ю.В. Спарта как тип полиса 47 6. И.М.Тронский, "История Античной литературы 7 Казимеж Куманецкий История культуры Древней Греции Страницы: 1, 2 |
|
© 2008 |
|